За что их прозвали Великими. Что мы знаем об Александре III? Оценки русской интеллигенцией положения России при Александре II Рабочее движение и появление марксизма
Если присмотреться к тем былым правителям, кого сегодня называют «великими», то можно сильно удивиться! Оказывается, что самые «великие» – те, кто больше всех навредил русскому народу! И нам всё это внушают с раннего детства…

Для любого здравомыслящего человека уже давно не секрет, что мы проживаем в мире, который кто-то устроил не для людей, вернее, не для всех людей; в котором подавляющее большинство живёт по правилам мизерного меньшинства, причём мир – крайне враждебен, а правила направлены на уничтожение большинства. Как такое могло случиться? Как хлипенький Давид ухитрился взгромоздиться на шею огромному Голиафу и погонять его, беззаботно свесив ноги? Хитростью, да обманом, в основном. Одним из способов, которым большинство заставили подчиняться меньшинству – это фальсификация прошлого. Об этом откровенно высказывался очень умный, но дьявольски жестокий Римский Папа:
«Поэтому, чтобы подчинять мирно, я использую очень простой и надёжный способ – я уничтожаю их прошлое… Ибо без прошлого человек уязвим… Он теряет свои родовые корни, если у него нет прошлого. И именно тогда, растерянный и незащищённый, он становится «чистым полотном», на котором я могу писать любую историю!.. И поверите ли, дорогая Изидора, люди этому только радуются… так как, повторяю, они не могут жить без прошлого (даже если сами себе не желают в этом признаваться). И когда такового не имеется, они принимают любое, только бы не «висеть» в неизвестности, которая для них намного страшнее, чем любая чужая, выдуманная «история»…»
Этот способ «мирного подчинения» оказался намного эффективнее подчинения силой. Ибо действует незаметно для подчинямых, мало-помалу погружая их в ментальный сон, а подчинители не испытывают ненужных неудобств – ручки не марают и мечами не машут. Основное их оружие – перо и чернила. Так они действуют, конечно, уже после того, как всех носителей правды, коих всегда было немного, физически уничтожили, информацию о них извратили, иногда до противоположного, а всё их наследие тщательно, до последнего листочка, собрали и увезли к себе. Что не смогли увезти, без колебаний уничтожали. Вспомним, что были уничтожены Этрусская библиотека в Риме, Александрийская, а библиотека Ивана Грозного бесследно пропала.
Русского царя, который в своём Манифесте о незыблемости самодержавия от 29 апреля 1881 года возвестил об отходе от либерального курса своего отца, который развязал руки революционному движению, развивавшемуся на иудейские деньги, и выдвинул на первый план «поддержание порядка и власти, наблюдение строжайшей справедливости и экономии. Возвращение к исконным русским началам и обеспечение повсюду русских интересов », Великим никто не называет и памятников-колоссов не ставит . Александр III вообще крайне непопулярен среди русских либерастов, ни современных ему, ни современных нам.
Они создали ему репутацию тугодума, ограниченного человека с заурядными способностями и (о, ужас!) консервативными взглядами. Известный государственный деятель и юрист А.Ф.Кони, вынесший оправдательный приговор террористке Вере Засулич по делу о покушении на градоначальника Санкт-Петербурга генерала Ф.Трепова, прозвал его «бегемотом в эполетах». А министр путей сообщения Российской империи, а позже финансов С.Ю.Витте дал ему такую характеристику: император Александр III был «ниже среднего ума, ниже средних способностей и ниже среднего образования; по наружности походил на большого русского мужика из центральных губерний, и, тем не менее, он своей наружностью, в которой отражался его громадный характер, прекрасное сердце, благодушие, справедливость и вместе с тем твёрдость, несомненно импонировал». И это считается, что он относился к Александру III с симпатией.

Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Москве. Картина И.Репина (1885-1886)
Чем же Александр III заслужил к себе такое отношение?
Именно в его правление Россия сделала гигантский рывок вперёд, вытащив себя из болота либеральных реформ, в которые её завёл Александр II, сам же от них и погибнув. Член террористической партии «Народная воля» бросил бомбу ему под ноги. В стране тогда творилось примерно то же стремительное обнищание народа, та же нестабильность и беспредел, который нам устроили Горбачёв и Ельцин почти век спустя.
Александр III сумел сотворить чудо. В стране началась настоящая техническая революция. Бурными темпами шла индустриализация. Император сумел добиться стабилизации государственных финансов, что позволило начать подготовку к введению золотого рубля, которое было осуществлено уже после его смерти. Он яростно боролся против коррупции и казнокрадства. На государственные посты старался назначать хозяйственников и патриотов, защищавших национальные интересы страны.
Бюджет страны стал профицитным. Тот же Витте вынужден был признать «…император Александр III был хороший хозяин не из-за чувства корысти, а из-за чувства долга. Я не только в царской семье, но и у сановников никогда не встречал того чувства уважения к государственному рублю, к государственной копейке, которым обладал император Александр III. Он каждую копейку русского народа, русского государства берёг, как самый лучший хозяин не мог бы её беречь…».
Ужесточение таможенной политики и одновременное поощрение отечественного производителя привели к бурному росту производства. Таможенные обложения иностранных товаров повысились практически вдвое, что привело к существенному росту государственных доходов.
Население России выросло с 71 млн. человек в 1856 году до 122 млн. человек в 1894 году, в том числе городское - с 6 млн. до 16 млн. человек. Выплавка чугуна с I860 по 1895 год увеличилась в 4,5 раза, добыча угля - в 30 раз, нефти - в 754 раза. В стране было построено 28 тыс. вёрст железных дорог, соединивших Москву с основными промышленными и сельскохозяйственными районами и морскими портами (сеть железных дорог в 1881-92 гг. выросла на 47%).
В 1891 г. началось строительство стратегически важной Транссибирской магистрали, соединившей Россию с Дальним Востоком. Правительство начало выкупать частные железные дороги, до 60% которых к середине 90-х годов оказалось в руках государства. Число русских речных пароходов возросло с 399 в 1860 году до 2539 в 1895-м, а морских - с 51 до 522.
В это время в России закончился промышленный переворот, и машинная индустрия сменила старые мануфактуры. Выросли новые промышленные города (Лодзь, Юзовка, Орехово-Зуево, Ижевск) и целые индустриальные районы (угольно-металлургический в Донбассе, нефтяной в Баку, текстильный в Иванове).
Объём внешней торговли, не достигавший в 1850 году и 200 млн. рублей, к 1900 году превысил 1,3 млрд. рублей. К 1895 году внутренний товарооборот вырос в 3,5 раза по сравнению с 1873 годом и достиг 8,2 млрд. рублей.
(«История России с древности до наших дней» / под редакцией М.Н.Зуева, Москва, «Высшая школа», 1998 г.)
Именно в правление императора Александра III Россия ни дня не воевала (кроме завершившегося взятием Кушки в 1885 завоевания Средней Азии) - за это царя назвали «миротворцем». Всё улаживалось исключительно дипломатическими методами, причём, безо всяких оглядок на «европы» или кого-либо ещё. Он считал, что России незачем там искать себе союзников и вмешиваться в европейские дела.
Известны его слова, ставшие уже крылатыми: «Во всём мире у нас только два верных союзника - наша армия и флот. Все остальные при первой возможности сами ополчатся на нас ». Он очень много сделал для укрепления армии и обороноспособности страны и нерушимости её границ. «Отечеству нашему, несомненно, нужна армия сильная и благоустроенная, стоящая на высоте современного развития военного дела, но не для агрессивных целей, а единственно для ограждения целостности и государственной чести России ». Так он говорил и так он делал.
Он не вмешивался в дела других стран, но и своей страной не давал помыкать . Приведу один пример. Спустя год после его восшествия на престол, афганцы, науськиваемые английскими инструкторами, решили откусить кусок территории, принадлежащей России. Приказ царя был лаконичен: «Выгнать и проучить, как следует! », что и было сделано. Посол Британии в Санкт-Петербурге получил предписание выразить протест и потребовать извинений. «Мы этого не сделаем» - сказал император и на депеше английского посла написал резолюцию: «Нечего с ними разговаривать». После этого он наградил начальника пограничного отряда, орденом Святого Георгия 3-й степени.
После этого инцидента Александр III сформулировал свою внешнюю политику предельно кратко: «Я не допущу ничьего посягательства на нашу территорию! »
Ещё один конфликт стал назревать с Австро-Венгрией из-за вмешательства России в балканские проблемы. На обеде в Зимнем дворце австрийский посол стал в довольно резкой форме обсуждать балканский вопрос и, разгорячившись, даже намекнул на возможность мобилизации Австрией двух или трёх корпусов. Александр III был невозмутим и делал вид, что не замечает резкого тона посла. Затем он спокойно взял вилку, согнул её петлёй и бросил по направлению к прибору австрийского дипломата и очень спокойно сказал: «Вот что я сделаю с вашими двумя или тремя корпусами ».
В частной жизни он держался строгих правил морали, был весьма набожен, отличался бережливостью, скромностью, нетребовательностью к комфорту, досуг проводил в узком семейном и дружеском кругу. Помпезности и показной роскоши на дух не переносил. Вставал в 7 утра, ложился в 3. Одевался он весьма просто. Его, например, часто можно было видеть в солдатских сапогах с заправленными в них штанами, а в домашней обстановке носил вышитую русскую рубаху.
Он любил носить военную форму, которую реформировал, взяв за основу русский костюм, чем сделал её простой, удобной в носке и пригонке, дешёвой в производстве и более пригодной для военных действий . Например, пуговицы были заменены крючками, что было удобным не только для подгонки формы, но и был устранён лишний блестящий предмет, могущий в солнечную погоду обратить внимание неприятеля и вызвать его огонь. Исходя из этих соображений, были отменены султаны, блестящие каски и лацканы. Такая прагматичность императора, безусловно, оскорбляла «утончённый вкус» креативной элиты.
Вот как описывает художник А.Н.Бенуа свою встречу с Александром III:
«Меня поразила его «громоздкость», его тяжеловесность и величие. Введенная в самом начале царствования новая военная форма с притязанием на национальный характер, её угрюмая простота и, хуже всего, эти грубые сапожищи с воткнутыми в них штанами возмущали мое художественное чувство. Но вот в натуре обо всём это забывалось, до того самоё лицо государя поражало своей значительностью»
Кроме значительности, император обладал ещё и чувством юмора, причём в ситуациях как бы к нему совсем не располагающих. Так, в каком-то волостном правлении какой-то мужик наплевал на его портрет. Все приговоры об оскорблении Его Величества обязательно доводились до него. Мужика приговорили к шести месяцам тюрьмы. Александр III расхохотался и воскликнул: «Как! Он наплевал на мой портрет, и я же за это буду ещё кормить его шесть месяцев? Вы с ума сошли, господа. Пошлите его к чёртовой матери и скажите, что и я, в свою очередь, плевать на него хотел. И делу конец. Вот ещё невидаль! »
Писательницу М.Цебрикову, горячую сторонницу демократизации России и женской эмансипации, арестовали за открытое письмо Александру III, которое она отпечатала в Женеве и распространяла в России, и в котором, по её словам, «нанесла моральную пощёчину деспотизму». Резолюция царя была немногословной: «Отпустите старую дуру !». Её выслали из Москвы в Вологодскую губернию.
Он был одним из инициаторов создания «Русского исторического общества» и его первым председателем и страстным коллекционером русского искусства. Собранная им обширная коллекция картин, графики, предметов декоративно-прикладного искусства, скульптур после его смерти была передана в Русский музей, который основал его сын, российский император Николай II в память о своём родителе.
Александр III испытывал стойкую неприязнь к либерализму и интеллигенции. Известны его слова:
«Министры наши… не задавались бы несбыточными фантазиями и паршивым либерализмом»
Он расправился с террористической организацией «Народная воля». При Александре III были закрыты многие газеты и журналы, пропагандирующие либеральное «брожение умов», однако все другие периодические издания, способствовавшие процветанию своего отечества, пользовались свободой и поддержкой правительства . К концу царствования Александра III в России выходило около 400 периодических изданий, из которых четверть составляли газеты. Значительно выросло число научных и специальных журналов и составило 804 наименования.
Александр III неуклонно проводил в жизнь своё убеждение, что в России должны господствовать русские . Активно проводилась политика защиты интересов государства и на окраинах Российской империи. Например, была ограничена автономия Финляндии, пользовавшаяся до того времени всеми преимуществами нейтралитета под защитой русской армии и выгодами бескрайнего русского рынка, но упорно отказывавшей русским в равноправии с финнами и шведами. Вся переписка финских властей с русскими должна была теперь вестись на русском языке, русские почтовые марки и рубль получили права хождения в Финляндии. Намечалось также заставить финнов оплачивать содержание армии наравне с населением коренной России и расширить сферу применения русского языка в стране.
Правительство Александра III приняло меры к ограничению ареала проживания евреев «чертой оседлости». В 1891 году им было воспрещено селиться в Москве и Московской губернии, причём было выселено из Москвы около 17 тысяч евреев, живших там на основании закона 1865 года, с 1891 года отменённого для Москвы. Евреям запретили приобретать собственность в сельской местности. В 1887 году специальным циркуляром устанавливалась процентная норма их приёма в университеты (не более 10% в черте оседлости и 2-3% в других губерниях) и вводились ограничения на занятие адвокатурой (их доля в университетах на юридические специальности составляла 70%).
Александр III покровительствовал русской науке . При нём открылся первый университет в Сибири - в Томске, был подготовлен проект создания Русского археологического института в Константинополе, основан знаменитый Исторический музей в Москве, открылся Императорский Институт экспериментальной медицины в Петербурге под руководством И.П. Павлова, технологический институт в Харькове, Горный институт в Екатеринославле, Ветеринарный институт в Варшаве и др. Всего в России к 1894 году было 52 высших учебных заведений.
Отечественная наука рванула вперёд. И.М.Сеченов создал учение о рефлексах головного мозга, заложив основы отечественной физиологии, И.П.Павлов разработал теорию об условных рефлексах. И.И. Мечников создал школу микробиологии и организовал первую в России бактериологическую станцию. К.А. Тимирязев стал основоположником отечественной физиологии растений. В.В. Докучаев положил начало научному почвоведению. Виднейший русский математик и механик П.Л. Чебышев, изобрёл стопоходящую машину и арифмометр.
Русский физик А.Г. Столетов открыл первый закон фотоэффекта. В 1881 г. А.Ф. Можайский сконструировал первый в мире самолёт. В 1888 г. механик-самоучка Ф.А. Блинов изобрёл гусеничный трактор. В 1895 г. А.С. Попов продемонстрировал изобретённый им первый в мире радиоприёмник и вскоре добился дальности передачи и приёма уже на расстоянии 150 км. Начинает свои исследования основоположник космонавтики К.Э. Циолковский.
Жаль только, что взлёт продолжался всего 13 лет. Ах, если бы царствование Александра III продлилось бы ещё хотя бы лет 10-20! Но он умер, не дожив даже до 50, в результате болезни почек, которая развилась у него после страшного крушения императорского поезда, случившегося в 1888 году. Крыша вагона-столовой, где находилась царская семья и приближённые, обвалилась, и император удерживал её на своих плечах, пока все не выбрались из-под завала.
Несмотря на внушительный рост (193 см) и солидную комплекцию, богатырский организм царя не выдержал такой нагрузки, и через 6 лет император скончался. По одной из версий (неофициальной, а официальное расследование вёл А.Ф.Кони) крушение поезда было вызвано взрывом бомбы, которую заложил помощник повара, связанный с революционными террористическими организациями. Не смогли они ему простить его стремление неуклонно «…Оберегать чистоту «веры отцов», незыблемость принципа самодержавия и развивать русскую народность …», распространяя ложь, что император умер от безудержного пьянства.
Смерть русского царя потрясла Европу, что удивительно на фоне обычной европейской русофобии. Французский министр иностранных дел Флуранс говорил:
«Александр III был истинным русским Царём, какого до него Россия давно уже не видела. Конечно, все Романовы были преданы интересам и величию своего народа. Но побуждаемые желанием дать своему народу западноевропейскую культуру, они искали идеалов вне России… Император Александр III пожелал, чтобы Россия была Россией, чтобы она, прежде всего, была русскою, и сам он подавал тому лучшие примеры. Он явил собою идеальный тип истинно русского человека»
Даже враждебный России маркиз Сольсбери признавал:
«Александр III много раз спасал Европу от ужасов войны. По его деяниям должны учиться государи Европы, как управлять своими народами»
Александр III был последним правителем Российского государства, кто на деле заботился о защите и процветании русского народа , но Великим его не называют и непрерывных панегириков, как предыдущим правителям, не поют.
/Выдержки из статьи Елены Любимовой «За что их прозвали Великими», topwar.ru /
В. Ключевский: «Александр III приподнял русскую историческую мысль, русское национальное сознание».
Воспитание и начало деятельности
Александр III (Александр Александрович Романов) родился в феврале 1845 г. Он был вторым сыном императора Александра II и императрицы Марии Александровны.
Наследником престола считался его старший брат Николай Александрович, поэтому младший Александр готовился к карьере военного. Но преждевременная смерть старшего брата в 1865 г. неожиданно изменила судьбу 20-летнего юноши, который стал перед необходимостью престолонаследия. Ему пришлось изменить свои намерения и заняться получением более фундаментального образования. Среди преподавателей Александра Александровича оказались известнейшие люди того времени: историк С. М. Соловьев, Я. К. Грот, который преподавал ему историю литературы, М. И. Драгомиров учил военному искусству. Но наибольшее влияние на будущего императора оказал преподаватель законоведения К. П. Победоносцев, который во время царствования Александра занимал пост обер-прокурора Святейшего Синода и имел большое влияние на государственные дела.
В 1866 г. состоялось бракосочетание Александра с датской принцессой Дагмарой (в православии — Мария Федоровна). Их дети: Николай (впоследствии российский император Николай II), Георгий, Ксения, Михаил, Ольга. На последней семейной фотографии, сделанной в Ливадии, изображены слева направо: цесаревич Николай, великий князь Георгий, императрица Мария Фёдоровна, великая княжна Ольга, великий князь Михаил, великая княжна Ксения и император Александр III.

Последняя семейная фотография Александра III
До восшествия на престол Александр Александрович состоял наказным атаманом всех казачьих войск, был командующим войсками Петербургского военного округа и Гвардейского корпуса. С 1868 г. являлся членом Государственного совета и Комитета министров. Участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 г.г., командовал Рущукским отрядом в Болгарии. После войны участвовал в создании Добровольного флота — акционерной судоходной компании (вместе с Победоносцевым), которая должна была содействовать внешнеэкономической политике правительства.
Личность императора

С.К. Зарянко "Портрет великого князя Александра Александровича в свитском сюртуке"
Александр III не был похож на своего отца ни внешностью, ни характером, ни привычками, ни самим складом ума. Его отличал очень большой рост (193 см) и сила. В юности он мог пальцами согнуть монету и сломать подкову. Современники отмечают, что он был лишен внешнего аристократизма: предпочитал непритязательность в одежде, скромность, не был склонен к комфорту, досуг любил проводить в узком семейном или дружеском кругу, был бережлив, держался строгих правил морали. С.Ю. Витте так описывал императора: «Он производил впечатление своей импозантностью, спокойствием своих манер и, с одной стороны, крайней твердостью, а с другой стороны, благодушием в лице… по наружности - походил на большого русского мужика из центральных губерний, к нему больше всего подошёл бы костюм: полушубок, поддевка и лапти; и тем не менее он своей наружностью, в которой отражался его громадный характер, прекрасное сердце, благодушие, справедливость и вместе с тем твердость, несомненно, импонировал, и, как я говорил выше, если бы не знали, что он император, и он бы вошёл в комнату в каком угодно костюме, - несомненно, все бы обратили на него внимание».
Он негативно относился к реформам своего отца, императора Александра II, так как видел их неблагоприятные последствия: рост бюрократии, тяжелое положение народа, подражание западу, коррупцию в правительстве. Он питал неприязнь к либерализму и интеллигенции. Его политический идеал: патриархально-отеческое самодержавное правление, религиозные ценности, укрепление сословной структуры, национально-самобытное общественное развитие.
Император с семьей проживал в основном в Гатчине из-за угрозы терроризма. Но подолгу проживал и в Петергофе, и в Царском Селе. Зимний дворец он не очень любил.
Александр III упростил придворный этикет и церемониал, сократил штат министерства двора, значительно уменьшил число слуг, ввёл строгий надзор за расходованием денег. Заменил при дворе дорогие заграничные вина крымскими и кавказскими, а число балов ограничил в год до четырех.
Вместе с тем император не жалел денег на приобретение предметов искусства, которые он умел ценить, так как в молодости обучался рисованию у профессора живописи Н. И. Тихобразова. Позже Александр Александрович возобновил занятия вместе с женой Марией Федоровной под руководством академика А. П. Боголюбова. Во время царствования Александр III из-за загруженности делами оставил это занятие, но сохранил на всю жизнь любовь к искусству: император собрал обширную коллекцию картин, графики, предметов декоративно-прикладного искусства, скульптур, которая после его смерти была передана в основанный российским императором Николаем II в память о своём отце Русский музей.

Император увлекался охотой и рыбалкой. Любимым местом его охоты стала Беловежская пуща.
17 октября 1888 г. царский поезд, в котором император совершал путешествие, потерпел крушение недалеко от Харькова. Были жертвы среди прислуги в семи разбитых вагонах, но царская семья осталась цела. При крушении обвалилась крыша вагона-столовой; как известно из рассказов очевидцев, Александр удерживал крышу на своих плечах до тех пор, пока из вагона не вышли его дети и жена и не прибыла помощь.
Но вскоре после этого император стал чувствовать боли в пояснице — сотрясение при падении повредило почки. Болезнь постепенно развивалась. Государь все чаще стал чувствовать недомогание: исчез аппетит, начались перебои с сердцем. Врачи определили у него нефрит. Зимой 1894 года он простудился, и болезнь быстро начала прогрессировать. Александра III отправили на лечение в Крым (Ливадия), где он и скончался 20 октября 1894 года.

В день кончины императора и в предшествующие последние дни его жизни рядом с ним был протоиерей Иоанн Кронштадтский, который возложил свои руки на голову умирающего по его просьбе.
Тело императора было доставлено в Петербург и похоронено в Петропавловском соборе.
Внутренняя политика
Александр II предполагал продолжить свои реформы, Высочайшее одобрение получил проект Лорис-Меликова (называемый «конституцией»), но 1 марта 1881 г. император был убит террористами, а его преемник реформы свернул. Александр III, как уже было сказано выше, не поддерживал политику своего отца, к тому же на нового императора сильное влияние имел К. П. Победоносцев, который был лидером консервативной партии в правительстве нового царя.
Вот что писал он императору в первые дни после вступления его на престол: « …час страшный и время не терпит. Или теперь спасать Россию и себя, или никогда. Если будут Вам петь прежние песни сирены о том, что надо успокоиться, надо продолжать в либеральном направлении, надобно уступать так называемому общественному мнению, - о, ради бога, не верьте, Ваше Величество, не слушайте. Это будет гибель, гибель России и Ваша: это ясно для меня, как день. <…> Безумные злодеи, погубившие Родителя Вашего, не удовлетворятся никакой уступкой и только рассвирепеют. Их можно унять, злое семя можно вырвать только борьбою с ними на живот и на смерть, железом и кровью. Победить не трудно: до сих пор все хотели избегнуть борьбы и обманывали покойного Государя, Вас, самих себя, всех и все на свете, потому что то были не люди разума, силы и сердца, а дряблые евнухи и фокусники. <…> не оставляйте графа Лорис-Меликова. Я не верю ему. Он фокусник и может ещё играть в двойную игру. <…> Новую политику надобно заявить немедленно и решительно. Надобно покончить разом, именно теперь, все разговоры о свободе печати, о своеволии сходок, о представительном собрании<…>».

После гибели Александра II развернулась борьба между либералами и консерваторами в правительстве, на заседании Комитета министров новый император после некоторых колебаний принял все-таки проект, составленный Победоносцевым, который известен как Манифест о незыблемости самодержавия. Это был отход от прежнего либерального курса: либерально настроенные министры и сановники (Лорис-Меликов, великий князь Константин Николаевич, Дмитрий Милютин) подали в отставку; во главе Министерства внутренних дел стал Игнатьев (славянофил); он изал циркуляр, который гласил: «… великие и широко задуманные преобразования минувшего Царствования не принесли всей той пользы, которую Царь-Освободитель имел право ожидать от них. Манифест 29-го апреля указывает нам, что Верховная Власть измерила громадность зла, от которого страдает наше Отечество, и решила приступить к искоренению его…».
Правительство Александра III проводило политику контрреформ, ограничившую либеральные преобразования 1860-70-х годов. Был издан новый Университетский устав 1884 года, который упразднял автономию высшей школы. Было ограничено поступление в гимназии детей низших сословий («циркуляр о кухаркиных детях», 1887). Крестьянское самоуправление с 1889 года стало подчиняться земским начальникам из местных помещиков, соединявших административную и судебную власть в своих руках. Земское (1890 г.) и городовое (1892 г.) положения ужесточили контроль администрации над местным самоуправлением, ограничили права избирателей из низших слоев населения.
Во время коронации в 1883 Александр III объявил волостным старшинам: «Следуйте советам и руководству ваших предводителей дворянства». Это означало охрану сословных прав дворян-помещиков (учреждение Дворянского поземельного банка, принятие выгодного для помещиков Положения о найме на сельскохозяйственные работы), усиление административной опеки над крестьянством, консервация общины и большой патриархальной семьи. Предпринимались попытки повысить общественную роль православной церкви (распространение церковно-приходских школ), ужесточались репрессии против старообрядцев и сектантов. На окраинах проводилась политика русификации, ограничивались права инородцев (особенно евреев). Была установлена процентная норма для евреев в средних, а затем и высших учебных заведениях (в черте оседлости - 10 %, вне черты - 5, в столицах - 3 %). Проводилась политика русификации. В 1880-е гг. введено обучение на русском языке в польских вузах (раньше, после восстания 1862-1863 гг. оно было введено там в школах). В Польше, Финляндии, Прибалтике, на Украине русский язык был введен в учреждениях, на железных дорогах, на афишах и т. д.
Но не только контрреформами характеризуется время правления Александра III. Были понижены выкупные платежи, узаконена обязательность выкупа крестьянских наделов, был учрежден крестьянский поземельный банк для возможности получения крестьянами ссуд на покупку земли. В 1886 г. была отменена подушная подать, введен налог на наследство и процентные бумаги. В 1882 г. было введено ограничение на фабричный труд малолетних, а также на ночную работу женщин и детей. Одновременно с этим усиливался полицейский режим и сословные привилегии дворянства. Уже в 1882-1884 годах были изданы новые правила о печати, библиотеках и кабинетах для чтения, названные временными, но действовавшие до 1905 г. Затем последовал ряд мер, расширяющих преимущества поместного дворянства - закон о дворянских выморочных имуществах (1883 г.), организация долгосрочного кредита для дворян-землевладельцев, в форме учреждения дворянского земельного банка (1885 г.), вместо проектированного министром финансов всесословного поземельного банка.

И. Репин "Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Москве"
В царствование Александра III было построено 114 новых военных судов, в том числе 17 броненосцев и 10 бронированных крейсеров; русский флот занимал третье место в мире после Англии и Франции. Армия и военное ведомство были приведены в порядок после их дезорганизации в период русско-турецкой войны 1877-1878 гг., чему способствовало полное доверие, оказываемое министру Ванновскому и начальнику главного штаба Обручеву со стороны императора, не допускавшему постороннего вмешательства в их деятельность.
В стране усиливалось влияние Православия: возросло число церковных периодических изданий, увеличивались тиражи духовной литературы; восстанавливались закрытые в прежние царствование приходы, шло интенсивное строительство новых храмов, количество епархий в пределах России выросло с 59 до 64.
В период царствования Александра III произошло резкое уменьшение выступлений протеста, в сравнение со второй половиной царствования Александра II, спад революционного движения в середине 80-х годов. Уменьшилась и террористическая активность. После убийства Александра II было лишь одно удавшееся покушение народовольцев (1882 г.) на одесского прокурора Стрельникова и неудавшееся (1887 г.) на Александра III. После этого террористических актов в стране больше не было до начала XX века.
Внешняя политика
В период царствование Александра III Россия не вела ни одной войны. За это Александр III получил название Миротворца.
Основные направления внешней политики Александра III:
Балканская политика: укрепление позиций России.
Мирные отношения со всеми странами.
Поиск верных и надежных союзников.
Определение южных границ Средней Азии.
Политика на новых территориях Дальнего Востока.
После 5-векового турецкого ига в результате русско-турецкой войны 1877-1878 г.г. Болгария в 1879 г. обрела свою государственность и стала конституционной монархией. Россия предполагала найти в Болгарии союзницу. Сначала так и было: Болгарский князь А. Баттенберг проводил дружественную политику по отношению к России, но потом австрийское влияние стало преобладать, а в мае 18881 г. в Болгарии произошел государственный переворот, который возглавил сам Баттенберг – он отменил конституцию и стал неограниченным правителем, проводя проавстрийскую политику. Болгарский народ не одобрил этого и не поддержал Баттенберга, Александр III потребовал восстановления конституции. В 1886 г. А. Баттенберг отрекся от престола. Чтобы не допустить вновь турецкого влияния на Болгарию, Александр III выступил за точное соблюдение Берлинского договора; предложил Болгарии самой решать свои проблемы во внешней политике, отозвал русских военных, не вмешиваясь в болгаро-турецкие дела. Хотя русский посол в Константинополе объявил султану, что Россия не допустит турецкого вторжения. В 1886 г. между Россией и Болгарией были разорваны дипломатические отношения.

Н. Сверчков "Портрет императора Александра III в мундире лейб-гвардии Гусарского полка"
В то же время у России осложняются отношения с Англией в результате столкновения интересов в Средней Азии, на Балканах и в Турции. Одновременно между Германией и Францией также осложняются отношения, поэтому Франция и Германия стали искать возможности сближения с Россией на случай войны между собой – в планах канцлера Бисмарка она была предусмотрена. Но император Александр III удержал Вильгельма I от нападения на Францию, используя родственные связи, и в 1891 г. был заключен русско-французский союз на то время, пока существует Тройственный союз. Договор имел высокую степень секретности: Александр III предупредил правительство Франции, что в случае разглашения тайны союз будет расторгнут.
В Средней Азии были присоединены Казахстан, Кокандское ханство, Бухарский эмират, Хивинское ханство и продолжалось присоединение туркменских племён. В годы правления Александра III территория Российской империи увеличилась на 430 тыс. кв. км. На этом расширение границ Российской империи закончилось. Россия избежала войны с Англией. В 1885 г. было подписано соглашение о создании русско-английских военных комиссий для определения окончательных границ России с Афганистаном.
В это же время усиливалась экспансия Японии, но России было трудно вести боевые действия в том районе в связи с отсутствием дорог и слабого военного потенциала России. В 1891 году в Россия началось строительство Великой Сибирской магистрали - железнодорожной линии Челябинск-Омск-Иркутск-Хабаровск-Владивосток (ок. 7 тыс. км). Это смогло бы резко увеличить силы России на Дальнем Востоке.

Итоги правления
За 13 лет царствования императора Александра III (1881–1894) Россия совершила сильный экономический рывок, создала промышленность, перевооружила русскую армию и флот, стала крупнейшим в мире экспортером сельскохозяйственной продукции. Очень важно, что все годы правления Александра III Россия прожила в мире.
Годы царствования императора Александра III связаны с расцветом русской национальной культуры, искусства, музыки, литературы и театра. Он был мудрым меценатом и коллекционером.
П.И.Чайковский в трудное для него время неоднократно получал материальную поддержку от императора, что отмечено в письмах композитора.
С. Дягилев считал, что для русской культуры Александр III был самым лучшим из русских монархов. Именно при нем начался расцвет русской литературы, живописи, музыки и балета. Великое искусство, которое потом прославило Россию, началось при императоре Александре III.
Ему принадлежит выдающаяся роль в развитии исторических знаний в России: при нем стало активно работать Русское Императорское Историческое Общество, председателем которого он был. Император являлся создателем и учредителем Исторического музея в Москве.
По инициативе Александра в Севастополе был создан патриотический музей, главную экспозицию которого представляла Панорама Севастопольской обороны.
При Александре III открылся первый университет в Сибири (Томск), был подготовлен проект создания Русского археологического института в Константинополе, стало действовать Русское Императорское Палестинское общество, и построены православные храмы во многих европейских городах и на Востоке.
Величайшие произведения науки, культуры, искусства, литературы, эпохи правления Александра III являются великими достижениями России, которыми мы гордимся до сих пор.
«Если бы императору Александру III было суждено продолжать царствовать еще столько лет, сколько он процарствовал, то царствование его было бы одно из самых великих царствований Российской империи» (С.Ю. Витте).

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Иного мнения по крестьянскому вопросу придерживались уже упомянутые А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский и их революционные последователи. Взгляды А.И. Герцена основывались на идее "общинного (русского) социализма". Разочарованный Европой, он пишет, что России не обязательно проходить через стадии развития, которые прошли европейские страны и доработались до определенных социальных идеалов. Россия по своему быту находится ближе к тем идеалам. И секрет этого - в русской сельской общине. Эта община нуждается, однако, в определённом развитии и изменении, поскольку в современном виде она не представляет удовлетворительного решения проблемы личности и общества: личность в ней подавлена, поглощена обществом. Сохранив на протяжении всей своей истории земельную общину, русский народ "находится ближе к социалистической революции, чем к революции политической". Социализм в общине обосновывается им следующими доводами: во-первых, демократизм, или "коммунизм" (т.е. коллективность) в управлении жизнью сельской артели. Крестьяне на своих сходках, "на миру", решают общие дела деревни, выбирают местных судей, старосту, который не может поступить вразрез с волей "мира". Это общее управление бытом обусловлено тем, - и это второй момент характеризующий общину в качестве зародыша социализма, - что люди пользуются землёй сообща.
Коллективизм общины и право на землю и составляли, по А.И. Герцену, те реальные зародыши, из которых, при условии отмены крепостного права и ликвидации самодержавного деспотизма, может развиться социалистическое общество. Герцен полагал, однако, что сама община по себе никакого социализма не представляет. Вследствие своего патриархального характера она в настоящем виде лишена развития; общинное устройство в течение веков усыпляло народную личность, в общине она принижена, её кругозор ограничен жизнью семьи и деревни. Для того чтобы развить общину как зародыш социализма, необходимо приложить к ней западноевропейскую науку, при помощи которой только и можно ликвидировать отрицательные, патриархальные стороны общины.
"Общинный социализм" А.И. Герцена и его работа в "Колоколе" оставили богатый материал для исследователей. В советское время о нем вышло большое количество литературы. Особого внимания заслуживают труды Н.М. Пирумовой по революционному народничеству в общем и по А.И. Герцену в частности. Интересна ее оценка мыслителя. В книге "Александр Герцен: революционер, мыслитель, человек" она назвала "истинно присущими Герцену" "истинный гуманизм, внутреннюю свободу, диалектичность мышления, всеохватывающую способность понимания, высокое мужество и благородство".
Развивший теорию А.И. Герцена Н.Г. Чернышевский иначе смотрел на общину. Для него община -- патриархальный институт русской жизни, которая призвана сначала выполнить роль "товарищеской формы производства" параллельно с капиталистическим производством. Затем она вытеснит капиталистическое хозяйство и окончательно утвердит коллективное производство и потребление. После этого община исчезнет как форма производственного объединения.
Идеи А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского легли, как мы уже говорили, в основу народнических учений П.Л. Лаврова, П.Н. Ткачева и М.А. Бакунина. Однако, конечно же, не без изменений.
П.Л. Лавров считал крестьянскую общину и особенности, свойственные России, средством, обеспечивающим некапиталистический путь развития. Он отмечал, что русское крестьянство, начиная со "смутного времени", не переставало протестовать при каждом удобном случае и что русское крестьянство глубоко убеждено в принадлежности всей земли народу. Рассматривая историю закрепощения русского крестьянства, он разъяснял, что в крестьянстве сохранились традиции общинного землевладения с древнейших времен. Больше всего Лаврова интересовала проблема отношений собственности внутри крестьянской общины. Он полагал, что это более близкая форма к социалистической общественной собственности, чем частная капиталистическая собственность.
Относительно крестьянской реформы П.Л. Лавров писал, что обстоятельства, вынудившие самодержавие к проведению реформы, в развитии "оппозиционной мысли", а не в объективных потребностях экономического положения страны. Лавров, как и все народники, объяснял причины реформы развитием в обществе "гуманных" и "освободительных" идей. В то же время он писал о бедственном положении крестьянства: "Каждое улучшение положения имущего класса соответствует фатально новым бедствиям для народа". А за все платежи, которые берутся у крестьян из средств, необходимых для поддержания семьи, народ не имел от "заботливого правительства" ничего, кроме кабака, распространения болезней, периодических голодовок и невыносимых податей.
Вторит П.Л. Лаврову П.Н. Ткачев, указывая, что передача земли крестьянам в результате реформы не улучшила положения народа, а, наоборот, привела к усилению его эксплуатации, которая принимала все более изощренные формы. Ткачев считал, что реформа коснулась более юридических отношений, но мало изменила хозяйственную, экономическую сторону быта крестьян: юридическая зависимость исчезла, но бедность и нищета остались.
Признавая общину особенностью русской жизни, Ткачев считал, что особенность эта не результат самобытного развития, присущего одним лишь славянским народам, а следствие более медленного продвижения России по тому же пути, который уже прошла Западная Европа.
Из верной посылки о схожести форм общинного владения в разных странах Ткачев, как и все революционные народники, делал спорный вывод, что сохранившаяся в России община создает для русских крестьян сравнительно с западноевропейскими странами выгодные условия для проведения социалистической революции. Считая, что идея коллективной собственности глубоко срослась со всем миросозерцанием русского народа, Ткачев утверждал, что "наш народ, несмотря на свое невежество, стоит гораздо ближе к социализму, чем народы Западной Европы, хотя они и образованнее его".
Бакунин относительно общины придерживается того мнения, что в том виде, как она сложилась в России, поддерживает "патриархальный деспотизм", убивает индивидуальную инициативу и вообще поглощает лицо "миром". В ней нет свободы, а следовательно, и нет прогрессивного развития. Как анархист Бакунин приписывает все отрицательные черты общинного быта влиянию государства, которое, по его словам, "окончательно раздавило, развратило русскую общину уже и без того развращенную своим патриархальным началом. Под его гнетом само общинное избирательство стало обманом, а лица, временно избираемые самим народом... превратились, с одной стороны, в орудия власти, а с другой -- в подкупленных слуг богатых мужиков-кулаков". Таким образом, Бакунин далек от идеализации сельской общины, но, несмотря на это, он не отвергает общинную организацию как таковую. Впрочем, в отличие от Чернышевского, связывавшего построение социализма в России с установлением демократической республики и видевшего в республиканизме важнейшее условие для развития общинного начала, Бакунин ставил будущее общины в зависимость от полного разрушения государства и исключения из жизни народа принципа власти. Относительно положения русского крестьянства, он писал, что оно не в состоянии уплатить возложенные на него непосильные налоги и платежи. Чтобы собрать налог и покрыть недоимки, которые крестьянин не может платить, - продают орудия его труда и даже его скот. Крестьяне настолько разорены, что у них нет ни семян для посевов, ни возможности обрабатывать землю.
Таким образом, рассмотрев ряд совершенно разных точек зрения по отношению к власти и крестьянскому вопросу, мы еще раз увидели, насколько широк был разброс мировоззрений интеллигенции того времени, в одном обществе сосуществовали кардинально противоположные парадигмы. Отчего так? Да, в сущности, от природы человека, который всегда будет чем-нибудь не удовлетворен. А учитывая очень непростую обстановку незавершенности преобразований, переходного периода, эти недовольные настроения расцвели буйным цветом. Правильно говорили древние: "Не дай тебе Бог жить в эпоху перемен!"
III . Участие интелли генции в революционном подполье
И все же, почему так разрослась и набрала популярность в интеллигентской среде идея радикальных преобразований, вылившаяся в целую череду террористических актов, закончившихся в итоге убийством человека, преобразовавшего Россию, возвысившего ее на международной арене и укрепившего изнутри? Что подвигло часть интеллигенции перейти к столь жестким методам борьбы с властью, осуществлявшей либеральные реформы? Об этом наша глава.
Ничто не возникает ниоткуда, ничто не исчезает в никуда - этот закон физики известен всем еще со школы. Нам думается, что применим он не только к физическим, но и к общественным явлениям. Вот только это "ниоткуда" в отдельно взятом государстве имеет зачастую не только внутреннюю обусловленность, а возникает под влиянием внешних факторов. В нашем случае - это влияние европейских освободительных движений второй и третей четвертей XIX века, и в наибольшей степени - революционных событий 1848-1849 гг., Парижской коммуны 1871 г. и франко-пруссской войны 1870-71 гг. (вспомним и М.А. Бакунина, и А.И. Герцена, принимавших участие в революциях 1848-49 гг. в Риме и Париже (А.И. Герцен), Праге и Дрездене (М.А. Бакунин)).
А.И. Герцен, в сущности, под воздействием неудач революционной Франции, июньской реакции 1848 года теряет веру в Европу (это отражено в его книге "С того берега", вышедшей в 1850 году в немецком переводе), а после личной драмы, вызванной гибелью матери и младшего сына в 1851 году и позднее жены - в 1852 г., он окончательно убеждается, что будущее за русской общиной. В этот промежуток времени пишутся работы "О развитии революционных идей в России" (впервые опубликована в 1851 г. на немецком языке; в том же году издан французский оригинал; в русском переводе вышла нелегально в Москве в 1861 г.), "Россия" (1849), "Письмо русского к Маццини" (1850), "Русский народ и социализм" (1851). Его журнал "Колокол" (1857 -1867 гг.) читали даже в Зимнем дворце.
В статье "Русский народ и социализм" он называет Европу "дряхлым Протеем", "разрушающимся организмом". Он с тревогой и разочарованием замечает: "Ни законности, ни правды, ни даже личины свободы; везде неограниченное господство светской инквизиции; вместо законного порядка - осадное положение. Один нравственный двигатель управляет всем - страх, и его достаточно. Все вопросы отступают на второй план перед всепоглощающим интересом реакции. Правительства, по-видимому, самые враждебные, сливаются в единую, вселенскую полицию. Русский император, не скрывая своей ненависти к французам, награждает парижского префекта полиции; король неаполитанский жалует орден президенту республики. Берлинский король, надев русский мундир, спешит в Варшаву обнимать своего врага, императора австрийского <…> в то время как он, отщепенец от единой спасающей церкви, предлагает свою помощь римскому владыке. Среди этих сатурналий, среди этого шабаша реакции, ничто не охраняет более личности от произвола. <…> Едва веришь глазам. Неужели это та самая Европа, которую мы когда-то знали и любили?" Здесь явно видно презрение к современной А.И. Герцену Европе и руководству императорской России. Он отмечает такую вещь, что у России есть несомненное преимущество - она не есть что-то застывшее но, изменяющееся, пусть даже, часто, не в лучшую сторону: "Россия государство совершенно новое - неоконченное здание, где все еще пахнет свежей известью, где все работает и вырабатывается, где ничто еще не достигло цели, где все изменяется, - часто к худшему, но все-таки изменяется". Спасение он видит в русской сельской общине, которая "спасла русский народ от монгольского варварства и от императорской цивилизации, от выкрашенных по-европейски помещиков и от немецкой бюрократии".
Нельзя не сказать и об иного плана факторах, повлиявших на становление Герцена как теоретика "русского социализма". Здесь, конечно, сыграло свою роль восстание декабристов, пробудившее в душе Герцена первые, хотя ещё и смутные, революционные устремления, первые мысли о борьбе против несправедливости и произвола. Н.О. Лосский пишет об этом так: "Сознание неразумности и жестокости самодержавного политического режима развило в Герцене непреодолимую ненависть ко всякому рабству и произволу". Многое вынес А.И. Герцен из философии Гегеля. В философии Гегеля он нашёл обоснование правомерности и необходимости борьбы со старым и конечной победы нового. Пунктом соединения социализма с философией является в трудах А.И. Герцена идея гармоничной цельности человека. Идея единства и бытия рассматривалась Герценом также и в плане социально-историческом, как идея объединения науки и народа, которые и будут знаменовать социализм. Герцен писал, что когда народ поймёт науку он выйдет на творческое создание социализма . Уже здесь отдаленно звучит предостережение от "казарменного коммунизма", более четко выраженное им в 1860-х годах в выступлениях против анархизма М.А. Бакунина.
Реформа 1861 года не оправдала надежды А.И. Герцена на полное освобождение крестьян, которое открыло бы прямую дорогу развитию страны к социализму. Доказательство того, что после реформы Россия не утратила возможности перейти к социализму, минуя капитализм, составляет важную сторону развития теории "русского социализма" в 60-х годах. Герцен намечает два пути движения к социализму: для запада социализм - заходящее солнце, для русского народа - восходящее.
Идеи А.И. Герцена явились во многом фундаментом для теорий революционных народников 1860-х - 70-х годов. Он задал определяющий вопрос: должна ли Россия на пути к социализму повторить все фазы европейского развития или ее жизнь пойдет по иным законам? И сам же, своей теорией, дал отрицательный ответ на него, полагая, что Россия несет в себе черты исторической самобытности в виде сельской общины, артельного труда и мирского самоуправления. Поэтому, как ему казалось, Россия придет к социализму, минуя капитализм.
Действительно, характеристика "русского социализма", данная А.И. Герценом, это подтверждает. Он писал в "Колоколе" в 1867 г.: "Мы русским социализмом называем тот социализм, который идет от земли и крестьянского быта, от фактического надела и существующего передела полей, от общинного владенья и общинного управления, - и идет вместе с работничьей артелью навстречу той экономической справедливости, к которой стремится социализм вообще" .
Народники наследовали от А.И. Герцена идею некапиталистического пути России к социализму, веру в сельскую общину как зародыш будущего общества, убеждение в социалистическом характере крестьянской революции и в необходимости ее подготовки. Их также объединяет ненависть к самодержавию и несправедливости сословного строя, их связывает забота о благосостоянии всего народа, защита свободы и просвещения, революционная страстность и непримиримость ко всяким проявлениям либерализма. Они сознательно выражали интересы крестьянских масс. А.И. Герцен придавал особое значение интеллигенции в освободительном движении. У народников эта мысль приобрела форму огромнейшего влияния интеллигенции на народ.
И все же не один только А.И. Герцен повлиял на развитие и распространение революционных взглядов в среде интеллигенции. Тому были и вполне объективные причины в виде несовершенства крестьянской реформы. Вопреки ожиданиям о полном освобождении крестьян с землей получилось так, что они становились лично свободными, но должны были в течение 49 лет выплачивать выкупные платежи с процентами. При этом в большом количестве случаев размеры наделов, оставшихся по системе "отрезков", уменьшились и не обеспечивали крестьян достаточным количеством земли. Отсюда и многочисленные народные волнения и бурные обсуждения проблемы в обществе. Возьмем, к примеру, восстание весны 1861 года в селе Бездна, когда волнения распространились на 75 селений Спасского, Чистопольского, Лаишевского уездов Казанской губернии и смежных уездов Самарской и Симбирской губерний. Тогда восстание было жестоко подавлено. 12 апреля 1861 по приказу генерала Апраксина была расстреляна безоружная 4-тысячная толпа крестьян. По официальному донесению казанского военного губернатора министру внутренних дел, были убиты и умерли от ран 91 человек, более 350 человек были ранены. 19 апреля 1861 был расстрелян "толкователь" Манифеста Антон Петров. Из 16 крестьян, преданных военному суду, 5 были приговорены к наказанию розгами и заключению в тюрьму на разные сроки. На эту трагедию бурно отозвался герценовский "Колокол". В номере от 15 мая 1861 года читаем: "Да, русская кровь льется рекой! <…> Правительство все могло предупредить, и польскую кровь и русскую, а теперь за свою шаткость, за свое непонимание, за свое неумение ни в чем идти до конца - убивает толпы наших братьев". И в следующем номере от 1 июня 1861 г. указывается на то, что такого кровопролития могло и не быть, дождись Апраксин подкреплений в виде еще четырех рот, в результате чего общая численность солдат составила бы 1200 человек и несколько пушек, т.е. крестьяне возможно отступили бы и выдали новоявленного толкователя "Манифеста". Но он выступил с одной ротой, в результате, чего после непродолжительных переговоров "рота солдат сделала по толпе народа в нескольких шагах 5 залпов, по толпе, которая была в 50 раз многочисленнее и могла разорвать в куски солдат. Бедный народ только стонал после каждого выстрела русые головы падали, облитые кровью, или крестились, вспоминая заветные слова манифеста <…> да повторяя, что он умирает за царя. Бойня была ужасна". В результате погибло 70 человек, 15 человек умерло от ран на следующий день, а "врач, посланный из Казани, поехал на место бойни через двое суток после убийства. До тех пор раненые оставались без помощи".
В знак траура 16 апреля 1861 г. студенты Казанского университета и Духовной академии организовали панихиду по убитым крестьянам с. Бездны. В кладбищенской церкви Казани собралось около 400 человек. Перед собравшимися выступил профессор университета, видный историк А.П. Щапов. Он произнес страстную речь в защиту угнетенного народа, воздал должное крестьянским мученикам и закончил ее словами: "Да здравствует демократическая конституция!" Щапов был арестован, отстранен от преподавания, а Священный Синод постановил "подвергнуть вразумлению и увещанию в монастыре". Однако под давлением протеста общественности Александр II отменил решение Синода. Щапову разрешили проживание в Петербурге под надзором полиции.
Не меньшую роль сыграли известные журналы "Современник" и "Русское слово". В них печатались классики нашей литературы, известные своими демократическими настроениями. Это и Н.Г. Чернышевский, и Н.А. Добролюбов, и М.Е. Салтыков-Щедрин и многие другие. Под влиянием их свободолюбивого голоса множество студентов вышло на улицы осенью 1861 года в знак протеста против изданных правительством в июле 1861 г. "Временных правил", которые усиливали надзор за студентами и ограничивали доступ в университеты разночинцам. Начавшиеся в сентябре 1861 г. в Петербурге, волнения в октябре перекинулись в Москву и Казань. Массовая уличная демонстрация студентов Петербургского университета была разогнана полицией, сотни студентов препровождены в Петропавловскую крепость. В защиту студентов выступили передовые профессора университета, среди них Н.И. Костомаров и П.В. Павлов, подвергшиеся за это правительственным гонениям. В Москве студенческая демонстрация закончилась избиением ее участников полицией и арестами. Ответом правительства на выступления студентов в Петербурге, Москве и Казани явилось временное закрытие университетов. И снова мы видим бурную реакцию "Колокола", в котором приводится письмо одного из очевидцев провокации и избиения студентов жандармами: "Лишь только вышли они на площадь, раздались свистки и со всех сторон из засады показались жандармы.
Тут произошла схватка. Многие защищались, но все были взяты; иные бежали, но тогда тулупы, народ кинулись на них с криками: "Бейте поляков! Они пришли резать губернатора!" С яростью брали они студентов за воротники, валили, давили, полиция спасала их и говорила прохожим: "Мы спасаем! Народ рвет на части бунтовщиков!" Это показалось странным. С чего? Как? Но скоро штука была открыта, это были переодетые будочники и солдаты, и они-то с криками бросились увлечь народ. Два купца первыми открыли это, узнав будочника своего квартала, переодетым в тулуп.<…> Разъяренные как звери, жандармы … бросались на всякого, у кого была форма студентская. <…> Вытаскивая студентов из экипажей, их волочили по земле, разбивали им лицо. Одного буквально удавили на шарфе и его замертво подняли на бульваре две дамы и сами свезли в клинику… Другого, Каревьина, жандарм ударил палкой по голове; он упал замертво - но скоро приподнял голову, другой жандарм наехал на него лошадью и раздавил его! Его унесли, и он, говорят, умер".
Такое отношение к студенчеству, которое боролось за свои права исключительно мирными, ненасильственными способами, не могло не возмутить общество. Пусть то, что мы привели, напечатано в радикальном журнале, но даже если отбросить комментарии, остаются голые факты, свидетельствующие о произволе властей. А притом, что это происходило в год начала Великих реформ, в год освобождения от крепостной зависимости 20 миллионов человек, при государе, известном своими либеральными наклонностями, уже есть противоречие. Да, мы говорим о середине XIX столетия, когда еще не стояло на повестке дня введение Конституции и свобод, с нею связанных, но подобные акции властей на фоне общего "потепления" внутриполитической обстановки вполне закономерно вызвали рост антиправительственных настроений образованной части общества.
В радикально настроенных кругах недовольство вылилось в многочисленные прокламации и создание первой "Земли и воли" братьями Александром и Николаем Серно-соловьевичами, Николаем Обручевым, Александром Слепцовым и Александром Путятой. Эта федерация кружков и групп просуществовала до 1864 г. Ее программным документом была статья Н.П. Огарева в "Колоколе" "Что нужно народу?", где он сам и отвечал: "Очень просто, народу нужна земля и воля". В программе выдвигались требования передачи крестьянам земли, которой они владели до реформы, (и даже прирезки к недостаточным наделам), замены правительственных чиновников выборными волостными, уездными и губернскими органами самоуправления, избрания центрального народного представительства, сокращения расходов на войско и на царский двор. Основным средством воздействия на крестьян считалась пропаганда. Крестьянству предлагалось "сближаться с войском,.. молча собираться с силами,.. чтоб можно было умно, твердо, спокойно, дружно и сильно отстоять против царя и вельмож землю мирскую, волю народную и правду человеческую". Всего в "Земле и воле" состояло около 400 человек. Руководители ее надеялись на крестьянское восстание в 1863 г., которого, однако, не произошло. Тогда внутри возникли серьезные противоречия, связанные также и польскими событиями, и к 1864 г. она распустилась.
Кстати, говоря о польских волнениях, нужно отметить неоднозначность отношения к ним в русском обществе. Одни поддерживали его, другие выступали за его скорейшее подавление. И здесь снова считаем важным привести два диаметрально противоположных суждения печатных изданий консервативной и революционной мысли - "Московских ведомостей" М.Н. Каткова и "Колокола" А.И. Герцена. Как известно, в споре рождается истина, вот и мы попробуем приблизиться к ней, зачитав совершенно разные мнения по такому животрепещущему вопросу. В статье от 8 марта 1863 года М.Н. Катков обвиняет во всем мелкое дворянство и католическое духовенство, не трогая ни крупных землевладельцев, ни крестьян: "Те классы, в руках которых земля, капиталы, промыслы и торговля, до сих пор держатся в стороне, и все восстание является делом шляхтичей, мелкого, безземельного дворянства, да католического духовенства, а вовсе еще не целого народа".
Этим "Московские ведомости" не ограничиваются выдают в адрес восставших множество жестких высказываний, как например в номере 93 от 30 апреля, где восставшие обвиняются в терроре: "… крестьяне в Царстве Польском решительно не сочувствуют восстанию и даже враждебо настроены ему. Но они поставлены в ужасное положение. Их душат и вешают агенты национального комитета, а русские войска не всегда могут оказывать им защиту. <…> При таком положении дел, обязанность всякого правительства, сознающую лежащую на нем ответственность, должна состоять в том, чтобы освободить мирное население из-под власти терроризма".
И уж, конечно, одна из самых гневных статей посвящена находке проекта восстания, подписанного Мерославским, в доме графа Андрея Замойского: "Ложь, в этой программе восстания, равно как и в польском катехизисе, возводится на степень священного начала; обман самый нахальный, ничем не стесняющийся, рекомендуется каждой строчкой и простирается на все. Обманывать русское правительство, обманывать русский народ, обманывать польский народ, обманывать правительства западных держав, обманывать общественное мнение Европы, обманывать наших глупых социалистов и помешанных демагогов, обманывать всех без разбора, вот политика польских патриотов, вот их "святая справа", вот задача, которую они себе поставили".
Как видно из приведенных отрывков статей, консервативно настроенная общественность крайне негативно относилась к подобным проявлениям непокорности. На иных позициях стояли радикально настроенные слои интеллигенции, рупором которых являлся герценовский "Колокол". "Слова порицания умолкают перед роскошью злодейства, двоедушия и глупости, которую вызвало петербургское правительство… и все это не оставляя своего лепета о прогрессе и либерализме" - пишет А.И. Герцен. "Шайками пьяных убийц", "одичалыми грабителями", "зверями, падшими в состояние царских опричников", жертвами "голода, побоев, нравственной слепоты и казарменной дрессировки" называет "Колокол" наши войска, которые газета "Инвалид" превозносит, говоря, что они "во всем блеске выказали те свойства, которые составляют славу и красу каждой армии". Говоря о подавлении восстания, А.И. Герцен метафоричен: "Печален наш удел, скрепя сердце, помечать главные черты неравного боя польского Лаокоона с петербургским чудовищем… С одной стороны героизм до безрассудства, поэзия, любовь, великие предания, воля, беспомощность и смерть. С другой - властолюбивый каприз, забитое повиновение, угрызение совести, сила и прусская помощь" . К слову сказать, помимо столь эмоциональных выступлений, в "Колоколе" приводились и письма русских офицеров в Польше, весьма недвусмысленно описывавших грабительские действия наших войск.
Конечно, надо отметить, что нельзя воспринимать без должной критики статьи А.И. Герцена (как и статьи М.Н. Каткова), но в сложном переплетении социальных и национальных проблем подобные высказывания имели сильное воздействие на читателя. Написанные на злободневную тему, они могли склонить человека как на крайние левые позиции, так и сделать его убежденным консерватором. Сила печатного слова, сказанного вовремя, удесятеряется.
Все мы помним каракозовский выстрел 4 апреля 1866 года. Сам Д. Каракозов был членом кружка "ишутинцев", действовавшего 1863 - 1866 гг. под знаменами идей Н.Г. Чернышевского. Их целью была подготовка крестьянской революции путем заговора интеллигентских групп. Члены кружка пытались организовать разного рода производственно-бытовые артели. В Москве ими были открыты переплетная и швейная мастерские, воскресная школа и Общество взаимного вспомоществования для бедных студентов. В феврале 1866 г. создали тайное общество под названием "Организация". Они намереваясь распространить в провинции ее филиалы. Дмитрий Каракозов без согласования с остальными, по своей инициативе совершил покушение на Александра II: 4 апреля 1866 г. он стрелял в императора у Летнего сада в Петербурге, но промахнулся и был схвачен. Суд приговорил его к повешению, остальных членов кружка - к разным срокам каторги и ссылки.
Заслуживает внимания реакция консервативных кругов на такое происшествие, явившееся, что ясно из "Московских ведомостей", неожиданностью. М.Н. Катков в статье от 3 августа 1866 года, посвященной выстрелу в Летнем саду, недоумевает по этому поводу: "Можно ли поверить, чтобы мальчишки-школьники, как бы они не были испорчены, не находясь ни в каких сочувственных отношениях в окружающей среде, могли составить сами из себя ядро какой-нибудь значительной организации? Что следственная комиссия обратила внимание на язву нигилизма, это не могло казаться удивительным, это было весьма естественно; но удивительными казались слухи, будто бы эти нигилистические кружки сомкнулись сами собою в обширную и сильную организацию, которая охватила всю страну. Еще страннее было предполагать, что организующая сила появилась в этой ржавчине и плесени, называемой нигилизмом, в то время, когда в обществе не было уже никаких сомнений и колебаний относительно свойств этого жалкого явления… Странным казалось то, что нигилизм оказался способным действовать именно тогда, когда он видимо слабел и иссякал в своих источниках, когда множество жертв его освободилась от него как от кошмара <…> когда учащаяся молодежь стала обнаруживать несравненно лучший дух…"
Вполне понятно, почему чувствуется некоторая растерянность в словах М.Н. Каткова. Ведь до этого случая цари спокойно могли гулять без охраны, поскольку в глазах народа власть императора была священной. События весны 1866 года встряхнули общество, которое не могло поверить, что подобное возможно.
Естественно, покушение на государя императора не могло не повлечь ужесточение режима. Притом же, что вовсю шли реформы, любой отход от них был чреват протестами осмелевшей общественности. Такие меры как закрытие "Современника", "Русского слова", гонения на высшую школу, ограничение прав земств и задержка реформы городского самоуправления привели к волне студенческих беспорядков осенью 1868 - весной 1869 гг. Как мы видим, атмосфера для развития революционных идей водворилась самая что ни на есть благоприятная. И в такой обстановке возникло тайное общество "Народная расправа" во главе с С.Г. Нечаевым.
О печально известном убийстве студента И.И. Иванова, не согласного с С.Г. Нечаевым нельзя говорить иначе как о бесчеловечности и разнузданном фанатизме последнего. Его "Катехизис революционера" больше похож на бред сумасшедшего, чем на этику революционера. В доказательство этого можно привести многие пункты оттуда, но, чтобы не загромождать наше исследование, приведем лишь два из них: " п.6. Суровый для себя, он должен быть суровым и для других. Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в нем единою холодною страстью революционного дела. Для него существует только одна нега, одно утешение, вознаграждение и удовлетворение - успех революции. Денно и нощно должна быть у него одна мысль, одна цель - беспощадное разрушение. Стремясь хладнокровно и неутомимо к этой цели, он должен быть всегда готов и сам погибнуть и погубить своими руками всё, что мешает ее достижению. <…> п.13. Революционер вступает в государственный, сословный и так называемый образованный мир и живет в нем только с целью его полнейшего, скорейшего разрушения. Он не революционер, если ему чего-нибудь жаль в этом мире, если он может остановиться перед истреблением положения, отношения или какого-нибудь человека, принадлежащего к этому миру, в котором всё и все должны быть ему ненавистны. Тем хуже для него, если у него есть в нем родственные, дружеские или любовные отношения - он не революционер, если они могут остановить его руку". Надо сказать, что подавляющее большинство членов революционного лагеря крайне негативно восприняли подобные мысли и не пошли по такому пути. В начале 1870-х образуются новые кружки, как то "Общество большой пропаганды" С. Перовской и М. Натансона ("чайковцы"), кружок Александра Долгушина, которые к 1874 году были разгромлены.
Начиная разговор о 1870-х годах, мы считаем не лишним привести данные В.С. Антонова по социальному составу участников революционного движения в эти годы, чтобы понять, кто являлся его главной движущей силой:
|
Социальный состав |
Число участников |
% к общему числу |
|
|
Ремесленники, кустари |
|||
|
Крестьяне |
|||
|
Солдаты, младшие военные специалисты |
|||
|
Мелкие служащие |
|||
|
Служащие |
|||
|
Земские служащие |
|||
|
Собственники предприятий, купцы |
|||
|
Священники |
|||
|
Адвокаты, актеры |
|||
|
Офицеры, военные чиновники |
|||
|
Литераторы |
|||
|
Врачи, фельдшера, акушерки |
|||
|
Учащиеся низших и средних общеобразовательных и специальных школ |
|||
|
Семинаристы |
|||
|
Военные гимназисты, юнкера |
|||
|
Студенты и вольнослушатели высших учебных заведений |
|||
Из этих данных видно, что определяющую роль играли студенты, значительная часть которых, по словам В.С. Антонова, шли в революцию с младших курсов университетов и институтов. При этом он подтверждает свои выводы данными статистики III отделения за 1873-1877 года, по которым эта цифра составляет более 50% (37, 5% у В.С. Антонова). Теперь легче будет понять, что представляло собой революционное движение в 1870-х годах.
Два животрепещущих вопроса внутренней политики России в 1870-х продолжали оставаться: вопрос крестьянский и положение самодержавной власти императора. Эти два камня преткновения побуждали к действию революционеров того времени. В 1870-е годы оформляются три основных идеологических линии: пропагандистская, заговорщическая и "бунтарская" (анархизм М.А. Бакунина). Для данного периода характерно и "хождение в народ" и практика террора, закончившаяся убийством Александра II. Кстати, говоря о "хождении в народ", нельзя пройти мимо имен П.Л. Лаврова и М.А. Бакунина, которые идейно подготовили его.
П.Л. Лавров в своих "Исторических письмах" интеллигенцию рассматривает как "критически мыслящих личностей", выступающих двигателем сознательных изменений культуры в противоположность непреднамеренным ее изменениям.
Радикальную часть интеллигенции, по его мнению, составляют личности, способные и желающие действовать в интересах народа. Их пока меньшинство, им трудно проявить себя в обществе, в котором отсутствуют демократические свободы. Но за ними будущее: "Перед общественными формами личность действительно бессильна, однако борьба ее против них безумна лишь тогда, когда она сделаться не может. Но история доказывает, что это возможно, и что даже это естественный путь, которым осуществляется прогресс в истории. Итак, нам приходится поставить и решить вопрос: как обращались слабые личности в общественную силу?" Отвечая на этот вопрос, П.Л. Лавров определяет три ступени такого превращения. На первой ступени в борьбу за социальный прогресс вступают отдельные критически мыслящие личности. Они осознают царящее вокруг них зло, и начинают борьбу с ним. На втором этапе число энергичных, фанатично преданных делу свободы личности, растет. Их подвиг самопожертвования вдохновляет толпу, "их легенда воодушевляет тысячи той энергией, которая нужна для борьбы".
Основным условием, при котором личность становится движущей силой прогресса, является ее связь с массами, через партию, способную бороться за прогресс, за осуществление идеалов справедливого общества. На третьей ступени партия сплачивает усилия отдельных критически мыслящих личностей, вырабатывает стратегию и тактику борьбы за светлое будущее. Однако партия не может стать направляющей силой исторического прогресса, если она будет оторвана от масс. П.Л. Лавров был убежден, что идеи способны двигать человечество лишь тогда, когда они сделаются обыденным явлением для значительной части общества. Отсюда его глубокое убеждение, что революция может быть совершена только "посредством народа". А поскольку основная масса русского народа - малообразованное крестьянство, основная задача интеллигенции, особенно ее молодежной части, состоит в том, чтобы понять потребности народа, и помочь ему осознать свою силу, и вместе с ним приступить к революционным преобразованиям.
Забегая вперед, скажем, что идеи П.Л. Лаврова сыграли определенную роль в "хождении в народ", но, по словам Б.С. Итенберга, лавризм не был символом движения и что многие из участников "хождения" "видели в нем абстрактное учение, далекое от практических задач борьбы".
М.А. Бакунин в главной своей работе "Государственность и анархия" так же возлагал свои надежды на интеллигенцию и призывал идти в народ: "Она должна идти в народ, несомненно, потому что ныне везде, по преимуществу же в России, вне народа, вне многомиллионных чернорабочих масс нет более ни жизни, ни дела, ни будущности". Причем из двух путей, по которым надлежало действовать - "более миролюбивого и подготовительного свойства" и "бунтовского" - он выбирал второй. При этом М.А. Бакунин отмечает, что первый вариант замечателен, но вряд ли выполним, аргументируя следующим образом: "Те, которые рисуют себе такие планы и искренно намерены осуществить их, делают это, без сомнения, закрывши глаза, для того чтобы не видеть во всем ее безобразии нашей русской действительности. Можно наперед предсказать им все страшные, тяжкие разочарования, которые постигнут их при самом начале исполнения, потому что за исключением разве только немногих, весьма немногих счастливых случаев, большинство между ними дальше начала не пойдет, не будет в силах идти".
Главную цель в подготовке восстания, то есть движения по второму пути, М.А. Бакунин видит в том, чтобы для начала убедить крестьян в том, что главный враг их не чиновник или помещик, но что все идет от царя, что он - главный виновник несправедливости: "Втолковать, дать ему почувствовать это всеми возможными способами и пользуясь всеми плачевными и трагическими случаями, которыми переполнена ежедневная народная жизнь, показать ему, как все чиновничьи, помещичьи, поповские и кулацкие неистовства, разбои, грабежи, от которых ему нет житья, идут прямо от царской власти, опираются на нее и возможны только благодаря ей, доказать ему, одним словом, что столь ненавистное ему государство - это сам царь и не что иное, как царь - вот прямая и теперь главная обязанность революционной пропаганды". Мыслитель считает, что надо дать почувствовать народу свое единство, и в единстве этом он несокрушим. Однако мешает этому замкнутость общин, которую он предлагает преодолеть это, установив связи между передовыми людьми всех деревень, провести такие связи между крестьянами и рабочими. Как подспорье, он предлагает использовать газету: "Для того же чтобы создалось в нашем народе чувство и сознание действительного единства, надо устроить род народной печатной, литографированной, писаной или даже изустной, газеты, которая бы немедленно извещала повсюду, во всех концах, областях, волостях и селах России о всяком частном народном, крестьянском или фабричном бунте, вспыхивающем то в одном, то в другом месте, а также и о крупных революционных движениях, производимых пролетариатом Западной Европы, для того чтобы наш крестьянин и наш фабричный работник не чувствовал себя одиноким, а знал бы, напротив, что за ним, под тем же гнетом, но зато и с тою же страстью и волею освободиться, стоит огромный, бесчисленный мир к всеобщему взрыву готовящихся чернорабочих масс". И при всем том надо быть на передовой и показывать личный пример народным массам.
Такими идеями руководствовались участники и первого, и второго "хождения в народ", однако крестьяне не внимали их пропаганде и нередко сдавали их полиции. Из наиболее громких дел мы имеем знаменитый "Процесс 193-х", где из 4 тысяч арестованных часть была отпущена за недостатком улик, часть сослана, 97 человек во время следствия либо сошли с ума, либо умерли еще до суда и 3 человека из 193-х обвиняемых ушли в мир иной во время судебного разбирательства. Надо сказать, что публичность судебных заседаний была относительна. В томе 3-м сборника "Государственные преступления в России в XIX веке" под редакцией Б. Базилевского, где имеется отчет о судебных заседаниях по данному делу, приводятся такие слова присяжных поверенных и ответ на них первоприсутствующего: "Заседание 18 октября. Как только вошел суд, присяжный поверенный Спасович обратился к присутствию с заявлением, в котором, указывая на необходимость для суда публичности и гласности, ходатайствовал перед Особым Присутствием о переносе суда в другую более вместительную залу, а до приискания таковой отсрочить судебные заседания". Поверенный Герард отметил также, что "отсутствие публичности было бы противно достоинству Сената и подрывало бы веру в его справедливость". На эти слова первоприсутствующий сенатор Петерс заявил, что не видит нарушений гласности и что, если бы они были, он первый сказал бы о них, и аргументировал свой ответ присутствием публики "здесь и там; (при этом Петерс указал на места позади судейских кресел)" Относительно "здесь и там" подсудимый Ипполит Мышкин на следующем заседании 20 октября высказался, что места эти, "вероятно, для лиц судебного ведомства" и что они вместе с "примостившимися тремя-четырьмя субъектами" за "двойными рядами жандармов" не есть еще настоящая публичность.
Подтверждает сказанное и А.Ф. Кони, написавший в своих мемуарах: "Места за судьями вечно были полны сановных зевак; в залах суда были во множестве расставлены жандармы, и ворота здания судебных установлений, как двери храма Януса, закрыты накрепко, будто самый суд находился в осаде".
Н.А. Троицкий, попытавшийся представить цельную картину процесса "193-х", пишет следующее: "На обычные места для подсудимых (возвышение за барьером, прозванное подсудимыми "Голгофой") были усажены мнимые организаторы "сообщества": Мышкин, Войнаральский, Рогачев, Ковалин и В.Ф. Костюрин… а все остальные подсудимые заняли места для публики.
На незначительное число оставшихся мест (10-12) допускалась по особым билетам лишь проверенная "публика" и агенты III отделения".
Представляет особый интерес речь И. Мышкина, в которой он обосновал революционную программу народников. Здесь в ответ на обвинение в участии в "противозаконном обществе", ставящем целью в "более или менее отдаленном будущем" свержение существующего строя, подсудимый отвечает, что является членом некой многочисленной социальной революционной партии. Основной задачей этой партии является установление строя, который "удовлетворяя требованиям народа в том виде, как они выразились в крупных и мелких движениях народных и повсеместно присущи народному сознанию, - составляет вместе с тем справедливейшую форму общественной организации", под которой разумеется "земля, состоящая из союза независимых производительных общин". Достичь этого можно только посредством социальной революции, поскольку правительство преграждает все мирные пути для реализации задачи. Ближайшая цель - достичь слияния "двух главных революционных потоков" - интеллигенции и народа, чтобы не получилось такого, как в европейских революциях, где только буржуазия извлекла выгоду. К этому и стремились участники движения 1874-1875 гг. Начиная обосновывать "хождение в народ", И. Мышкин отмечает, что "все движения интеллигенции соответствуют параллельным движениям в народе и даже являются простыми отголосками последних". Высказываясь далее о причинах революционной деятельности, он говорит о создании социально-революционной партии в начале 1860-х и о нескольких причинах данного процесса: "Оно (создание партии - прим. наше, А.В. ) совершилось как отголосок на народные страдания и народные волнения, при участии известной фракции русской интеллигенции, благодаря, главным образом, двум причинам: во-первых, влиянию на интеллигенцию передовой западноевропейской социалистической мысли и крупнейшего практического применения этой мысли - образования Международного Товарищества рабочих; во-вторых, уничтожению крепостного права, потому что в после крестьянской реформы в среде неподатных классов образовалась целая фракция, испытавшая на самой себе всю силу государственного экономического строя, готовая откликнуться на зов народа и послужившая ядром социально-революционной партии. Фракция эта - умственный пролетариат".
Колкие замечания отпускает И. Мышкин относительно реальной гласности общества. Он язвительно замечает, что гласность выражается лишь в освещении мелких событий, в то время как о значительных народных волнениях общество либо не знает вовсе, либо узнает только по слухам. А поэтому, на самом деле, устремления интеллигенции имеют свою крепкую опору в народе. Однако, на наш взгляд, если исходить из того, что пропагандистов сдавал полиции этот самый народ, такая уверенность И.Мышкина основана лишь на косвенных аргументах в виде крестьянских волнений. Крестьяне чужды были социалистическим идеям, которые им пытались внушить народники. А волнения - стремление свободно хозяйствовать на собственной земле без уплаты обременительных выкупных платежей. И все же народники были уверены в своей правоте.
Процесс обрёл большой резонанс как в России, так и заграницей. Результаты его были далеки от правительственных ожиданий. Суд оправдал 90 из 190 подсудимых (трое умерли в ходе процесса), 39 человек приговорили к ссылке на поселение, 32 - к заключению на разные сроки, 1 - к отрешению от должности и штрафу и 28 человек - каторге на срок от 3,5 до 10 лет. "Мало того, - пишет Н.А. Троицкий, - сформулировав приговор, суд перечислил обстоятельства, смягчающие вину подсудимых, и на этом основании ходатайствовал перед царем о смягчении наказания для половины осужденных, в том числе для всех, приговоренных к каторге, исключая Мышкина, которому члены суда не могли простить его речи". При этом, по данным Н.А. Троицкого, Александр II распорядился отправить на каторгу вместе с И. Мышкиным еще 11 человек и 80 из 90 оправданных были в административном порядке отправлены в ссылку III-м отделением опять же по указанию царя, т.е. приговор был ужесточен.
И тем не менее, по оценке Н.А. Троицкого, "роль процесса "193-х" как фактора, ускорившего переход народников к политической борьбе, неоспорима и общепризнанна. В этом отношении показательно, что с 1878 года вслед за процессом и начался новый, террористический этап народнического движения. Самый крупный из первых террористических актов - убийство шефа жандармов Н.В. Мезенцева 4 августа 1878 г. - был отмщением Мезенцеву за его демарш перед царем об изменении приговора по делу "193-х".
И действительно, в 1878 г. активизировалась террористическая деятельность второй "Земли и воли", созданной в 1876 году. Уже 24 января 1878 года В.И. Засулич стреляла в петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова за то, что тот приказал высечь политического заключенного. Процесс по этому делу правительством был сделан публичным и привел опять же к неожиданным для него результатам - В.И. Засулич была оправдана. Приговор вынес суд под председательством А.Ф. Кони, который в итоге надолго попал в опалу.
В ходе подготовки к самому заседанию обвинение испытывало затруднения, в частности двое из вероятных кандидатов в обвинители (Андреевский и Жуковский) по разным предлогам отказались от ведения дела, а согласившийся Кессель был, по оценке А.Ф. Кони, хорошо его знавшего, значительно слабее представителя защиты, присяжного поверенного Александрова. Эту мысль он высказал и в разговоре с министром юстиции графом Паленом накануне процесса: "…могу вас уверить, что трудно сделать более неудачный выбор обвинителя... Он уже теперь волнуется и пугается этого дела. Он никогда не выступал по таким серьезным делам; хороший "статист" и знаток следственной части, он -- совершенно ничтожный противник для Александрова..." На предложение А.Ф. Кони о назначении в качестве обвинителя Масловского или Смирнова, Пален ответил тем, что они товарищи прокурора палаты, а он не хотел придавать делу большого значения: "Всякий намек на политический характер из дела устранялся … с настойчивостью, просто странной со стороны министерства, которое еще недавно раздувало политические дела по ничтожнейшим поводам. Я думаю, что Пален первоначально был искренно убежден в том, что тут нет политической окраски, и в этом смысле говорил с государем, но что потом, связанный этим разговором и, быть может, обманываемый Лопухиным, он уже затруднялся дать делу другое направление..." Вовсю Пален пытался склонить председателя суда на сторону обвинения. Видя нежелание А.Ф. Кони, Пален просил, по крайней мере, дать ему "кассационный повод на случай оправдания". Никаким уговорам председатель суда не внял.
Интересно, кстати, мнение общественности по процессу Веры Засулич. По свидетельству все того же А.Ф. Кони, отношение к обвиняемой варьировалось от "любовницы Боголюбова" и "мерзавки" до восторженности ее поступком: "Отношение к обвиняемой было двоякое. В высших сферах, где всегда несколько гнушались Треповым, находили, что она -- несомненная любовница Боголюбова и все-таки "мерзавка", но относились к ней с некоторым любопытством. Я видел у графа Палена в половине февраля фотографические карточки "мерзавки", находившиеся у графини Пален, которые ходили по рукам и производили известный эффект. Иначе относилось среднее сословие. В нем были восторженные люди, видевшие в Засулич новую русскую Шарлотту Кордэ; были многие, которые усматривали в ее выстреле протест за поруганное человеческое достоинство -- грозный призрак пробуждения общественного гнева; была группа людей, которых пугала доктрина кровавого самосуда, просвечивавшаяся в действиях Засулич. Они в тревожном раздумье качали головами и, не отказывая в симпатии характеру Засулич, осуждали ее поступок как опасный прецедент..." Ф.Ф. Трепова же многие недолюбливали и сострадания к нему после покушения не испытывали: "Большинство, не любившее Трепова и обвинявшее его в подкупности, в насилиях над городским самоуправлением посредством высочайших повелений, возлагавших на город неожиданные тяготы, радовалось постигшему его несчастью. "Поделом досталось!" -- говорили одни..., "старому вору", -- прибавляли другие. Даже между чинами полиции, якобы преданными Трепову, было затаенное злорадство против "Федьки", как они звали его между собой. Вообще, сочувствия к потерпевшему не было, и даже его седины не вызывали особого сожаления к страданиям. Главный недостаток его энергичной деятельности в качестве градоначальника -- отсутствие нравственной подкладки в действиях -- выступал перед общими взорами с яркостью, затемнявшей несомненные достоинства этой деятельности, и имя Трепова не вызывало в эти дни ничего, кроме жестокого безучастия и совершенно бессердечного любопытства". Возможно и такое отношение в обществе к потерпевшему отчасти способствовало успеху защиты Веры Засулич.
Подобные документы
Исследование русской интеллигенции, ее зарождение. Проблема интеллигенции в России, ее судьба в ХХ веке. Мотивация и последствия высылки интеллигенции, репрессированной в 1922 году. Современная русская интеллигенция: конец ХХ века и сегодня.
реферат , добавлен 22.01.2008
Интеллигенция как своеобразный феномен русской культуры, представители. Рассмотрение причин религиозного раскола. Радищев как первый представитель русской интеллигенции с точки зрения Бердяева. Влияние революционной интеллигенции на аппарат власти.
курсовая работа , добавлен 16.12.2012
Изучение вклада крепостной интеллигенции в развитие русской национальной культуры. Появление первых профессиональных театров. Описания известных писателей, поэтов, архитекторов выходцев из крепостных. Крупные представители русской музыкальной культуры.
реферат , добавлен 12.07.2015
Экономическое положение и социальный статус интеллигенции России до и после революции 1917 года. Социально-психологический тип и политические приоритеты русской интеллигенции начала ХХ века. Идеологическое влияние марксизма на культурный слой России.
контрольная работа , добавлен 17.12.2014
Формирование центров российской эмиграции за рубежом, причины отъезда и основные направления эмигрантских потоков. Культурные центры русского зарубежного сообщества. Особенности жизни и деятельности представителей российской интеллигенции за рубежом.
контрольная работа , добавлен 29.04.2010
Понятие интеллигенции. Ее особое положение в провинции. Власть и общество. Интеллигенция – нравственный пример. Общественная деятельность рыцарей морали: педагогов и врачей. Представители литературы и искусства. Техническая и военная интеллигенция.
курсовая работа , добавлен 05.07.2008
Биография Александра II, удостоенного особого эпитета в русской дореволюционной и болгарской историографии - Освободитель. Деятельность Александра II как величайшего реформатора своего времени. Крестьянская реформа (отмена крепостного права 1861 г.).
реферат , добавлен 05.11.2015
Исследование положения православной церкви в годы правления И. Грозного, в период опричного террора. Митрополиты русской церкви в 60-70-е гг. XVI века. Монастыри и земельные владения церкви во время опричнины. Карательные меры против Новгородской епархии.
контрольная работа , добавлен 18.06.2013
Причины отмены крепостного права в 1861 г. в период правления императора Александра II. Учреждения, занимавшиеся подготовкой реформы. Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Значение и итоги крестьянской реформы, ее противоречия.
презентация , добавлен 11.10.2014
Теория суверенности, церковь как нравственный противовес русскому самодержавию в годы правления Ивана IV. Значение принятия патриаршества и его роль в борьбе с самозванцами и польско-шведскими интервентами. Реформы патриарха Никона и начало раскола.
Александр III предпринимал попытки подойти к разрешению вопросов развития промышленности и торговли в России на более высоком уровне, для этого привлекалась научная и промышленная интеллигенция страны, а также высокообразованные предприниматели, вносившие большой вклад в развитие науки и производства. Так, например, в 1882 году в Москве состоялась Всероссийская выставка. К ней должен был быть приурочен промышленный съезд, но два известных общества - «Общего содействия развитию промышленности и торговле» и «Императорское русское техническое общество» -, которые принимали участие в организации съезда 1872 года, не сумели договориться, собралось два съезда, оба в конце лета 1882 года. На этих съездах представителей промышленности было мало. Доминировали по-прежнему чиновники и нарождающаяся интеллигенция, особенно та, которая имела отношение к производству: инженеры, профессоры технических школ, статистики; но были также земцы как представители сельского хозяйства и даже литераторы. Промышленников было немного, но они были организованнее. Впервые здесь проявила себя незадолго перед этим создавшаяся новая группировка - организация горнопромышленников юга России.
Одним из главных вопросов, обсуждавшихся на обоих съездах, был вопрос тарифной политики. Протекционистские настроения были сильны, но в основном вопросе о пошлине на сельскохозяйственные орудия победили фритредеры. Характерно то, что лидерами на этом съезде были не земледельцы и не фабриканты, а интеллигенты - представители науки. Аграриев возглавлял профессор Л.В. Ходский, а промышленников профессор Д.И. Менделеев, но промышленники выставили уже ряд серьёзных ораторов, умевших говорить и знавших, что хотят сказать. Таковыми были: представитель горнопромышленников юга Н.С. Авдаков, представитель Москвы С.Т. Морозов, председатель Ярмарочного комитета Г.А. Крестовиков.
В 1882 году возник также съезд горнопромышленников Царства Польского, очень быстро ставший одной из весьма влиятельных в России организаций. За ним следуют съезды нефтепромышленников, которые начинают собираться с 1884 года. Эта группировка с самого начала носила более синдикатский, чем общественный характер и отличалась ожесточённой борьбой, которую вели между собой магнаты нефтяной промышленности - фирмы Нобеля, Ротшильда, Манташева и другие, более мелкие предприятия.
Существовавшие с 1880 года съезды уральских горнопромышленников были гораздо менее влиятельной группировкой, зато Постоянная совещательная контора железнодорожников (1887 года), объединившая металлургические заводы по районам, сразу занимает видное место среди других промышленных организаций. В ней большую роль играет представитель Московского района Ю.П. Чужой, в борьбе против диктатуры южных заводов. Во время правления Александра III возникают группировки мукомолов, сахарозаводчиков, винокуренных заводов, марганцевых промышленников. «Не меньший интерес, чем съезды, - пишет П.А. Берлин, - представляли те многочисленные смотрины, которые московская буржуазия устраивала своим министрам. На посту министра торговли и промышленности то и дело появлялись новые руководители, и каждый из них почитал своим долгом поехать в Москву и представиться её знаменитой буржуазии. При этом неизменно произносились речи как новым министром, так и представителями крупной буржуазии, и опять-таки в этих речах не было отточенных и отчётливых политических лозунгов, была всё та же неизменная ходатайствующая часть, но наряду с этим был и тон, делающий неприятной музыку этих съездов для представительных ушей, тон недовольства и стремления к политическим переменам. К обычным домогательствам и ходатайствам присоединялись и необычные, хотя очень расплывчато выраженные требования политических реформ» .
Таким образом, заводской и промышленной интеллигенции, образованному купечеству и предпринимателям приходилось приспосабливаться к нелёгким жизненным обстоятельствам обновляющегося времени второй половины ХIХ века, поэтому их деловые операции носили своеобразный характер и были невелики по объёму, рассчитаны на быструю прибыль и производились чаще всего на основе товарообмена. Своеобразие русского купечества ярче всего проявлялось в бытовых привычках, профессиональные навыки передавались по наследству: купечество не было ориентировано на получение специального образования. Русская коммерция тяготела к натуральному товарообмену. С точки зрения денег и кредита, она оставалась до середины ХIХ века на том уровне, который Западная Европа преодолела еще в средневековье. Докапиталистический характер русской коммерции отразился и в том, что важнейшее место в торговле занимали ярмарки, они существовали вплоть до конца ХIХ века.
Купцы, промышленная интеллигенция и предприниматели сыграли важнейшую роль в культурном развитии общества, так как занимались благотворительной деятельностью и большие средства вкладывали в науку, культуру и образование.
В рабочей среде начали появляться лидеры, которые направляли деятельность рабочих, делали их выступления организованными, нацеливали их на получение образования для того, чтобы грамотно вести борьбу, уметь доступно и правильно объяснять идеологию выступлений, быть аргументированными в разговорах с хозяевами заводов и предприятий и не сводить противостояние с правительством только к устранению царя. Одним из первых русских марксистов стал Г.П. Плеханов, в прошлом бакунист и руководитель «Чёрного передела». К нему примкнули и другие члены этой организации: В.И. Засулич, П.Б. Аксельрод, Л.Г. Дейч, В.Н. Игнатов.
В 1883 году, собравшись в Женеве, они объединились в группу «Освобождение труда». Г.В. Плеханов заявил, что борьба за социализм включает в себя и борьбу за политические свободы и конституцию. Вопреки Бакунину он считал, что ведущей силой в этой борьбе будут промышленные рабочие. Г.В. Плеханов полагал, что между свержением самодержавия и социалистической революцией должен быть более или менее длительный исторический промежуток. Он предостерегал от «социалистического нетерпения», от попыток форсирования социалистической революции. Самым печальным их последствием, писал он, может стать установление «обновлённого царского деспотизма на коммунистической подкладке». Ближайшей целью русских социалистов Г.В. Плеханов считал создание рабочей партии. Он призывал не запугивать либералов «красным призраком социализма». В борьбе с самодержавием рабочим потребуется помощь и либералов, и крестьян. В этой же работе «Социализм и политическая борьба» он выдвинул тезис о «диктатуре пролетариата», сыгравший весьма печальную роль в социалистическом движении.
В другой работе «Наши разногласия» Г.В. Плеханов попытался объяснить российскую действительность с марксистской точки зрения. Вопреки народникам, он считал, что Россия уже бесповоротно вступила в период капитализма. В крестьянской общине, доказывал он, давно нет былого единства, она раскалывается на «красную и холодную стороны» (на богатеев и бедняков), а потому не может быть основой для построения социализма. В перспективе - полный распад и исчезновение общины. Работа «Наши разногласия» стала значительным событием в развитии русской экономической мысли и в общественном движении, хотя Г.В. Плеханов недооценил жизнестойкость крестьянской общины.
Главную свою задачу группа «Освобождение труда» видела в пропаганде марксизма в России и сплочения сил для создания рабочей партии. Г.В. Плеханов и В.И. Засулич перевели ряд работ К. Маркса и Ф. Энгельса. Группе удалось наладить издание «Рабочей библиотеки», состоящей из научно-популярных и агитационных брошюр. По мере возможности они переправлялись в Россию. Один за другим в России стали появляться марксистские кружки, в деятельности которых активно участвовали студенты.
Один из первых - под руководством студента Димитра Благоева - возник в 1883 году, одновременно с группой «Освобождение труда». Между ними установилась связь. Члены благоевского кружка, петербургские студенты, начали пропаганду среди рабочих. В 1885 году Д. Благоева выслали в Болгарию, но его группа просуществовала ещё 2 года. В 1889 году среди студентов Петербургского технологического института возникла другая группа, которую возглавил М.И. Бруснев.
В 1888 году марксистский кружок появился в Казани. Его организатором был Н.Е. Федосеев, исключённый из гимназии за «политическую неблагонадёжность». Осенью 1888 года в кружок Н.Е. Федосеева пришёл В.И. Ульянов. Марксистское учение сразу привлекло молодого человека, ему казалось, что оно несёт в себе такой заряд, который способен взорвать весь несправедливый мир. Первые шаги к созданию сильной и централизованной организации В.И. Ульянов предпринял только в 1895 году.
Лидеры рабочего движения также сыграли важнейшую роль в политическом развитии общества, в духовном совершенствовании рабочих, росте их сознания и образования.
В 80-90-е годы ХIХ века существенно оживляется и крепнет роль научной интеллигенции, публицистов, литераторов и философов. Это время считается расцветом консервативной идеологии. Это политическое течение открыто пропагандирует Михаил Никифорович Катков. В 1884 году в «Московских ведомостях» он призывал правительство к «твёрдой власти, способной внушать спасительный страх» . Когда правительство Александра III ввело в 1884 году новый консервативный университетский устав, М.Н. Катков провозгласил со страниц своего издания: «Итак, господа, встаньте: правительство идёт, правительство возвращается!» . Он горячо приветствовал политику Александра III, пользовался личным расположением императора.
Открыто консервативные убеждения отстаивал в 80-е годы представитель литературной интеллигенции Константин Николаевич Леонтьев (1831-1891), писатель, публицист, литературный критик, в книгах «Восток, Россия и славянство» и «Наши новые христиане Ф.М. Достоевский и граф Лев Толстой». К.Н. Леонтьев назвал М.Н. Каткова «нашим политическим Пушкиным» и, в отличие от последнего, давал религиозно-философское обоснование курсу правительства Александра III на сильную власть и подавление как революционного, так и либерального свободомыслия.
Философские взгляды К.Н. Леонтьева складывались под воздействием русского идеолога Н.Я. Данилевского (1822-1885), который оправдывал жесткую позицию правительства и пропагандировал идею национального превосходства русского народа над другими народами. Концепция Н.Я. Данилевского оправдывала великодержавные устремления царизма. К.Н. Леонтьев и Н.Я Данилевский как представители научной интеллигенции пришлись ко двору Александра III, та как являлись последовательными и принципиальными противниками самой идеи прогресса, которая, с их точки зрения, приближает народ к смесительному упрощению и смерти.
Представители интеллигенции, ориентирующейся на либерально-народническую теорию «малых дел» считали, что интеллигенция должна отказаться от революционных задач и ограничиться в деревне культурнической работой. А.П. Чехов в произведении «Дом с мезонином» показал, как абсолютизация этой теории духовно обкрадывает фанатически отдавшуюся ей героиню повести Лиду Волчанинову. Однако в «теории малых дел» существовала и глубокая вера в культуру и плодотворное значение просветительской работы. Убеждённость в том, что нужна армия мирных работников, умеющих насаждать блага культуры повсюду, в самых глубоких и беспомощных уголках земли, была идеалистической стороной духа той эпохи. Именно 80- годы были характерны для того, чтобы окончательно «сложился тип неведомых, рано изнашивающихся, всегда несколько грустных, но в то же время самоотверженных и бескорыстных культурных работников, которые разбросаны по лицу русской земли и творят своё маленькое дело» .
Время глубокого разочарования в политике, в революционных формах борьбы с общественным злом сделало чрезвычайно актуальной толстовскую проповедь нравственного самоусовершенствования части литературной интеллигенции России 80-х-90-х годов. Именно в 80-е годы окончательно складывается религиозно-этическая программа обновления жизни в философско-публицистическом творчестве великого писателя Л.Н. Толстого, и толстовство становится одним из популярных общественных течений 80-х годов ХIХ века. Религиозно-этическая система Л.Н. Толстого опирается на учение об истинной жизни, смысл которой в духовной любви-благоговении, в любви к ближнему, как самому себе. Чем более наполнена жизнь такой любовью, тем ближе человек к духовной её сущности, которая и есть Бог. Представления Л.Н. Толстого об истинной жизни конкретизируются в учении о нравственном самоусовершенствовании человека, которое включает в себя пять заповедей Христа из нагорной проповеди, изложенной в Евангелии от Матфея. Основой программы самоусовершенствования является заповедь о непротивлении злу насилием. Учение Л.Н. Тостого было подхвачено значительной частью русской интеллигенции 80-х годов. Последователи Л.Н. Толстого покидали города, организуя земледельческие колонии, занимались пропагандой толстовких идей в народе среди религиозных сектантов-штундистов, пашковцев и других.
В эпоху 80-х годов начинает обретать популярность ученик другого мыслителя Николая Фёдоровича Фёдорова (1828-1903). Его взгляды во многом разделяет Ф.М. Достоевский. Под влиянием Н.Ф. Фёдорова формируется мировоззрение русского философа В.С. Соловьёва и К.Э Циолковского. В основе его книги «Философия общего дела» лежит грандиозная по своим масштабам мысль о полном овладении человеком тайнами жизни, о победе над смертью и достижении человечеством бесподобного могущества и власти над слепыми силами природы.
С точки зрения Н.Ф. Фёдорова, «прогресс, ведущий человечество к саморазрушению и смерти, нужно остановить и повернуть в другую сторону: к познанию исторического прошлого и овладению силами природы, обрекающими на смерть новые поколения людей» .
В 80-е годы наряду с демократической идеологией интеллигенции появляется и философская эстетика русского декаданса. Выходит в свет книга Н.М. Минского «При свете совести», в которой автор проповедует крайний индивидуализм. Усиливается влияние ницшеанских идей, извлекается из забвения и провозглашается чуть ли не кумиром Макс Штирнер с его книгой «Единственный и его собственность».
В конце 80-х-начале 90-х годов Россия теряет одного за другим интеллигентов революционно-демократического периода: уходят из жизни М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.Г Чернышевский, Елисеев и др.
Таким образом, русская философская интеллигенция периода 80-х-90-х годов развивает свои идеи, распространяемые в среде образованных слоёв населения. Многие философские идеи помогают Александру III укрепить свою власть и воздействовать на население России.
Представители промышленной интеллигенции и предприниматели сыграли важнейшую роль в культурном развитии всего общества, так как занимались благотворительной деятельностью и большие средства вкладывали в науку, культуру и образование.
Научная интеллигенция способствовала развитию науки, прогрессу промышленных предприятий и торговли в России. Поистине при Александре III Россия испытывала интеллектуальный и культурный взлёт, который вёл одновременно к триумфу просвещения и к эстетике отчаяния эпохи модерна и декаданса.
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, КАК И БЫЛО СКАЗАНО
Растет на чердаках и в погребах
Российское духовное величие.
Вот выйдет, и развесит на столбах
Друг друга за малейшее отличие.
И. Губерман
Одни интеллектуалы разумом пользуются, другие разуму поклоняются.
Г.К. Честертон
Разночинцы
Весь XVIII и XIX века растет число дворян – самого что ни на есть ядра «русских европейцев»… Если в эпоху Петра их всего порядка 100 тысяч человек, то к началу XIX века дворян по крайней мере тысяч 500, а к началу XX столетия в империи живет порядка 1300 тысяч лиц, официально признанных дворянами. Если в 1700 году на 1 дворянина приходилось примерно 140 худородных русских людей, то к 1800 году уже только 100–110 человек, а в 1900 г. – 97–98 человек. Если брать только русское население, то к 1900 году на 1 дворянина приходилось примерно 50 человек.
Государство не хочет расширения числа привилегированного сословия; тем более не хочет этого само дворянство. Но государство чересчур нуждается в чиновниках, офицерах и солдатах, Табель о рангах перекачивает в дворяне все больший процент населения.
За время правления Петра число чиновников возросло в четыре раза (при том что население в целом сократилось на 25 %); со времен Петра ко временам Екатерины число чиновников выросло минимум в три раза, при росте населения вдвое, а с 1796 года по 1857-й число чиновников выросло в шесть раз (при росте числа населения за те же годы в два раза). И далеко не все из этих новых чиновников угодили в дворяне.
Изначально правительство желало, чтобы не слишком многие попадали из недворян в дворяне. Оно хотело, чтобы производство из недворян в дворяне оставалось возможным, но было бы не системой, а редким исключением.
Об этом совершенно открыто говорится в Указе Петра от 31 января 1724 г.: «В секретари не из шляхетства не определять, дабы не могли в асессоры, советники и выше происходить».
Екатерина II Указом 1790 года «О правилах производства в статские чины» повышает чины, дающие право на потомственное дворянство, – теперь такое право дает лишь VIII ранг, для производства в который к тому же дворянам-то надо служить всего 4 года, а вот недворянам надо прослужить 12 лет в IX классе.
Павел I Указом от 1787 года «О наблюдении, при избрании чиновников к должностям, старшинства и места чинов» подтвердил те же правила, при всей его нелюбви к начинаниям матери.
Николай I заявлял буквально следующее: «Моей империей правят двадцать пять тысяч столоначальников», и ввел «Устав о службе гражданской», законы 1827 и 1834 го дов, которые определяли правила поступления в службу и продвижения по лестнице чинов. По этим законам для дворян и недворян сроки прохождения по лестнице чинов были разные, а потомственное дворянство давал уже не VIII, а V класс.
При Александре II, с 1856 года, дворянином становился только достигший IV класса, – а ведь этот класс жаловал только лично царь. В 1856 году вводится даже особое сословие «почетных граждан» – выслужившихся чиновников; людей вроде бы и уважаемых, но как бы все-таки и не дворян… В результате если офицеров-недворян и в XIX веке немного, порядка 40 % всего офицерства, то в 1847 году чиновников с классными чинами было 61 548 человек, а из них дворян – меньше 25 тысяч человек.
А есть же еще внетабельное чиновничество – низшие канцелярские служащие, не включенные в табель и не получающие чинов: копиисты, рассыльные, курьеры и прочие самые мелкие, незначительные чиновники. Их число было треть или четверть от всех чиновников. В их рядах дворянин – исключение.
«В результате к началу XIX века сформировался особый социальный класс низшего и среднего чиновничества, в рамках которого фомы опискины воспроизводились от поколения к поколению» .
В 1857 году 61,3 % чиновников составляли разночинцы. Впервые неопределенное слово «разночинец» употреблено еще при Петре, в 1711 году. В конце XVIII века власти официально разъяснили, кто они такие – разночинцы: в их число попадали отставные солдаты, их жены и дети, дети священников и разорившихся купцов, мелких чиновников (словом, те, кто не смог закрепиться на жестких ступеньках феодальной иерархии). Им запрещалось покупать землю и крестьян, заниматься торговлей. Их удел – чиновничья служба или «свободные профессии» – врачи, учителя, журналисты, юристы и так далее.
Само правительство Российской империи создало слой, расположенный ниже дворянства, но обладающий многими его привилегиями – пусть в меньшем объеме. Со времен Петра III чиновник имеет право на личную неприкосновенность – за любую провинность его не выпорют. Он может получить паспорт для заграничного путешествия, отдать сына в гимназию, а в старости ему дадут ничтожную, но пенсию. И уж конечно, с самым зашуганным Акакием Акакиевичем полиция будет говорить совсем не так, как с нечиновным, неслужилым.
Чиновник может быть очень беден, может прозябать в полном ничтожестве, если сравнить его с богатеями и важными чинами; но все же и он – какой-никакой, а винтик управленческого механизма огромной Российской империи, и все понимают, что он все же не какой-то там.
Служилый люд бреется, одевается в сюртуки, и уже по этим признакам – «русские европейцы».
Казалось бы, это – про служилых, а разночинцы – это и врачи, и учителя, и артисты. Но правительство пытается распространить свои «чиновничье-мундирные» привилегии и для тех, кто по самому смыслу своей деятельности должен был иметь независимый статус.
Павел I ввел почетные звания манфактур-советник, приравненные к VIII классу. «Профессорам при академии» и «докторам всех факультетов» давались IX чины – титулярного советника. Чин невысокий… Помните известную песню?
Он был титулярный советник,
Она – генеральская дочь.
Он робко в любви объяснился,
Она прогнала его прочь.
Пошел титулярный советник
И пьянствовал с горя всю ночь.
И в винном тумане носилась
Пред ним генеральская дочь .
Ученых вообще ценят невысоко, даже Ломоносов лишь под конец жизни получил от Екатерины II чин V класса – чин статского советника.
Но и они ведь тоже все бритые, все в сюртуках и в рубашках европейского образца, все могут внятно произнести «тетрадь» и «офицер», вполне правильно.
Так что дворяне-то они вовсе не обязательно дворяне, эта верхушка купечества, или окончившие гимназии, университеты, институты… Всякий служилый и всякий образованный традиционно, со времен Петра – «европеец» по определению. Правительство пыталось, чтобы каждый в этом кругу имел понятный для всех и однозначный ранг, поставить их, так сказать, в общий строй, сделать как бы чиновниками Российской империи… по ведомству прогресса.
Мундиры в XVIII веке носили даже члены Академии художеств – так сказать, служители муз. А уж для гражданских (!) чиновников существовало 7 вариантов официальных мундиров: парадный, праздничный, обыкновенный, будничный, особый, дорожный и летний – и было подробное расписание, который в какой день надо надевать. Императоры лично не гнушались тем, чтобы вникать в детали этих мундиров, их знаки различия, способы пошива и ношения.
Не меньше внимания и к способам титулования.
К лицам I–II классов надо обращаться ваше высокопревосходительство; к лицам III–IV – ваше превосходительство. К чиновникам с V–VIII рангами – ваше высокоблагородие, и ко всем последующим – ваше благородие.
К середине XIX века окончательно определяется, что высокопревосходительствами и превосходительствами становятся в основном потомственные дворяне. Бывают, конечно, и исключения, но на то они и исключения, чтобы случаться очень редко. Разночинцы доползают в лучшем случае до высокоблагородия, и то не все, только если повезет.
Люди свободных профессий
Как ни старается правительство, ему не удается создать стройную феодальную иерархию, где всегда понятно – кто выше кого. Жизнь усложняется и никак в эту иерархию не втискивается. Адвокатов, врачей, артистов, художников, литераторов часто называют «люди свободных профессий» – они могут работать и по найму, и как частные предприниматели, продавая свои услуги.
В Европе люди этих профессий осмысливают себя как особая часть бюргерства. В России их пытаются сделать частью государственной корпорации. Сами же они осознают себя особой группой общества – интеллигенцией.
Интеллигенция
Писатель Петр Дмитриевич Боборыкин жил с 1836 по 1921 год. За свою долгую, почти 85-летнюю жизнь он написал больше пятидесяти романов и повестей. Его хвалили, ценили, награждали… Но его литературные заслуги напрочь забыты, а в историю Боборыкин вошел как создатель слова «интеллигенция». Это слово он ввел в обиход в 1860-е годы, когда издавал журнал «Библиотека для чтения».
Слово происходит от латинского Intelligentia или Intellegentia – понимание, знание, познавательная сила. Intelligens переводится с латыни как знающий, понимающий, мыслящий. Словом интеллигенция сразу стали обозначать как минимум три разные сущности.
Во-первых, вообще всех образованных людей. В.И. Ленин называл интеллигенцией «…всех образованных людей, представителей свободных профессий вообще, представителей умственного труда…. В отличие от представителей физического труда» .
Если так, то интеллигентами были цари, воины и жрецы в Древнем Египте и Вавилоне, средневековые короли и монахи, а в Древней Руси – не только летописец Нестор, но и князья Владимир и Ярослав. А что?! Эти князья уже грамотные, знают языки, даже пишут юридические тексты и поучения детям.
Тем более интеллигенты тогда Петр I, все последующие русские цари и большинство их приближенных. В XVIII–XIX веках к этому слою надо отнести всех офицеров и генералов, всех чиновников и священников…
Сам Владимир Ильич с такой трактовкой не согласился бы, но так получается.
Во-вторых, в число интеллигентов попали все деятели культуры, весь слой, создающий и хранящий образцы культуры.
Очевидно, что творцы культуры совершенно не обязательно входят в этот общественный слой, и приходится создавать словесные уродцы типа «дворянская интеллигенция», «буржуазная интеллигенция» и даже «крестьянская интеллигенция». Ведь Пушкин и Лев Толстой – творцы культуры, но к интеллигенции как общественному слою никакого отношения не имеют. А поскольку такого общественного слоя нет ни в одной другой стране, то и Киплинг, и Голсуорси, и Бальзак, в точности как Пушкин и Лев Толстой, в одном смысле интеллигенты, а в другом – вообще не имеют к интеллигенции никакого отношения.
Известно письмо Пушкина знаменитому профессору Московского университета, историку и публицисту Михаилу Петровичу Погодину, а в письме есть такие слова: «Жалею, что вы не разделались еще с Московским университетом, который должен рано или поздно извергнуть вас из среды своей, ибо ничего чуждого не может оставаться ни в каком теле. А ученость, деятельность и ум чужды Московскому университету» .
Пушкин в роли гонителя интеллигенции?!
Поди разберись…
В-третьих, интеллигенцией стали называть «общественный слой людей, профессионально занимающийся умственным, преим. сложным, творческим трудом, развитием и распространением культуры» .
Это определение понять уже несколько сложнее… Действительно, какой труд надо считать в достаточной степени сложным и творческим? Кого считать развивателем и распространителем культуры?
По этому определению можно отказать в праве называться интеллигентами Пушкину и Льву Толстому – для них гонорары были только одним из источников дохода. Профессионалы – но не совсем…
Или можно исключить из числа интеллигентов инженеров: решить, что они не развивают культуру.
Словом, это определение открывает дорогу какому угодно произволу. Не зря же появились упомянутые сочетания типа «дворянской интеллигенции», «феодальной интеллигенции», «технической интеллигенции» или «творческой интеллигенции». В общем, нужны уточнения.
Есть и еще кое-какие трудности…
Первое: далеко не все, кого готовы были считать интеллигенцией сами интеллигенты, так уж хотели к ней относиться. Например, в 1910 году студенты Электротехнического института сильно подрались со студентами Университета – не желали, чтобы их называли интеллигентами. «Мы работаем! – гордо заявляли студенты – будущие инженеры. – Мы рабочие, а никакая не интеллигенция!»
Второе: в интеллигенцию постоянно пытались пролезть те, кого туда пускать не хотели: скажем, сельские акушеры, фельдшера, телеграфисты, машинисты, станционные смотрители (в смысле – которые на железной дороге). А что?! Работа у них такая, которой надо еще научиться, умственная работа; кто посмеет сказать, что это работа не творческая и не сложная?! К тому же они живут в самой толще народа, мало от него отличаются и, наверное, несут в него культуру.
Правда, интеллигенция, имеющая высшее образование и живущая в городах, относится к этой интеллигенции сложно… Еще сложнее, чем относилось дворянство к интеллигенции, – то есть сильно сомневаются и в ее культурности, и в ее отличиях от народа… Если они и признают эту интеллигенцию, то с оговорками: мол, это «сельская интеллигенция» или «местная интеллигенция». Мне доводилось даже слышать о «железнодорожной интеллигенции».
А сомнения такого рода не способствуют консолидации сил и объединению всего общественного слоя.
В-четвертых, интеллигенцией часто называли некий слой «борцов с самодержавием».
Интеллигенцией очень часто называли себя именно те, кто посвятил себя «построению нового общества», «разрушению старого темного мира», «борьбе с угнетением», «борьбе за трудовое крестьянство» и так далее. Сейчас в России эта категория людей ассоциируется больше всего с марксистами и социал-демократами. Но в России было полным-полно и народовольцев, из которых плавно выросли эсеры, и анархистов разных направлений, и националистов от русских черносотенцев до украинских сторонников Петлюры или Пилсудского.
То есть идейно эта группа невероятно разнообразна и текуча. Все время возникают новые партии и партийки, какие-то группочки и группки, отпочковываются «направления» и создаются «учения»… Но в главном эта категория очень похожа… В каждом «учении» и «направлении» считают правыми только себя, и не только правыми, но попросту единственными порядочными, честными и приличными людьми. Фразы типа «Каждый порядочный человек должен!» или «Все уважающие себя люди…» (после чего высказывается невероятнейший предрассудок) – это только внешнее проявление их невероятной, неприличнейшей агрессивности.
Каждый «орден борцов за что-то там» предельно агрессивен и по отношению ко всем другим орденам, и ко всем, кто вообще ни в какой орден не входит. Каждый орден считает интеллигенцией себя, и только себя… В крайнем случае, других идейно близких, но вот отнеси к интеллигенции того, кто вообще не «борется», – это свыше их сил!
Эти «ордена борцов» и создали дурную репутацию и слову «интеллигенция», и всякому, кто захочет себя этим словом определить. Как раз те, кого «орден борцов» охотно взял бы в качестве своего рода живого знамени, – известные и знаменитые, тот самый «культуроносный слой», начинают открещиваться от интеллигенции.
Стало широко известно, что знаменитый поэт Афанасий Фет завел себе привычку: проезжая по Москве, он приказывал кучеру остановиться около Московского университета и, аккуратно опустив стекло, плевал в сторону «цитадели знаний». Вряд ли тут дело в особой «реакционности» Фета или в его мракобесии. Скорее получается так, что, с точки зрения Фета, как раз Московский университет и был рассадником мракобесия…
Но самое масштабное открещивание российских интеллектуалов от интеллигенции связано со сборником «Вехи», происхождение которого таково: издатели заказали статьи об интеллигенции нескольким самым известным ученым и публицистам того времени. Подчеркну еще раз: все будущие авторы «Вех» – это люди известные, яркие, к фамилии каждого из них прочно добавлено слово «известный» или «выдающийся». Высказывания авторов «Вех»: С.Н. Булгакова, М.О. Гершензона, А.С. Изгоева, Б.А. Кистяковского, П.Б. Струве, Н.А. Бердяева – это голос тех, кого «авангард революционных масс» очень хотел бы считать «своими». Но кто с плохо скрытым отвращением «своими» быть не захотел. Цитировать «Вехи» не буду, отсылая заинтересовавшихся к первоисточнику . Почитать же «Вехи» очень советую – впечатляющая книга, и желания называться «интеллигентом» сразу становится меньше.
В-пятых, интеллигенцией стали называть тот самый общественный слой русских европейцев, возникший еще в XVIII веке: ниже дворянства, но несравненно выше народа.
Самому «слою» это определение очень понравилось.
Можно ли назвать шибко творческим труд копииста или даже коллежского асессора, чина VIII класса; много ли развивал и распространял культуру зубной врач или гинеколог в городе Перемышле или в Брянске – судите сами. Но как звучит!
В дальнейшем мы будем говорить об интеллигенции только в одном значении слова: как о социальном слое.
Так вот: интеллигенция с самого начала очень четко осознавала и оговорила во многих текстах, что она – никак не дворянство! Это было для интеллигенции крайне важно!
Но точно так же интеллигенция знала и то, что она – никак не народ. Она болела за народ, хотела его просвещения, освобождения и приобщения к культурным ценностям…
Но сама интеллигенция – это не народ, это она знает очень точно. Раньше, еще в XVIII веке, существовала формула, вошедшая даже в официальные документы: «дворянство и народ». Теперь возникает еще «интеллигенция и народ».
Рост числа интеллигенции
По переписи 1897 года интеллигенция в Российской империи насчитывала 870 тысяч человек. Из них 4 тысячи инженеров, 3 тысячи ветеринаров, 23 тысячи служащих в правлениях дорог и пароходных обществ, 13 тысяч – телеграфных и почтовых чиновников, 3 тысячи ученых и литераторов, 79,5 тысячи учителей, 68 тысяч частных преподавателей, 11 тысяч гувернеров и гувернанток, 18,8 тысячи врачей, 49 тысяч фельдшеров, фармацевтов и акушерок, 18 тысяч художников, актеров и музыкантов, насчитывалось 151 тысяча служащих государственной гражданской администрации, 43,7 тысячи генералов и офицеров.
В аппарате управления промышленностью и помещичьими хозяйствами трудились 421 тысяча человек.
Впрочем, далеко не все чиновники и тем более военные согласились бы называть себя интеллигенцией.
К 1917 году, всего за 20 лет, численность интеллигенции возросла в два раза и достигла полутора миллионов человек. Интеллигенция была крайне неравномерно распределена по территории страны. В Средней Азии на 10 тысяч жителей врачей приходилось в 4 раза меньше, чем в Европейской России. Плотность интеллигенции сгущалась к городам, но Петербург и Москва уже не играли той абсолютной роли, что в начале – середине XIX века.
Среди сельских учителей число выходцев из крестьян и мещан к 1917 году по сравнению с 1880-м возросло в шесть раз и составило почти 60 % всех сельских учителей.
Интеллигенция в других странах
Вообще-то, слово «интеллигенция» в Европе известно, но только одна страна Европы использует это слово в таком же смысле: это Польша. Там даже такие известные люди, как пан Адам Михник или пан Ежи Помяновский, называют себя интеллигентами.
То есть некоторым – понравилось быть интеллигентами: тем «прогрессивным» и «передовым», кто призывает к «очистительной буре» и к «построению светлого будущего». Француз Жан-Поль Сартр и американский еврей Говард Фаст называли себя интеллигентами.
Другие, как Герберт Уэллс или Томас Веблен, говорили об особой роли интеллигенции в мире. Якобы она идет на смену классу капиталистов, и в будущем умники, ученые интеллектуалы оттеснят буржуазию от власти, станут правительством мира. Для них слово «интеллигенция» тоже оказалось удобным.
Во время беседы с Гербертом Уэллсом товарищ Сталин разъяснил, что «капитализм будет уничтожен не «организаторами» производства, не технической интеллигенцией, а рабочим классом, ибо эта прослойка не играет самостоятельной роли» .
С чего Сталин взял, что рабочий класс играет именно что самостоятельную роль – особый вопрос, и задавать его надо не мне.
Но со всеми интеллигентами разъяснительную работу провести не удалось. Избежал ее потомок выходцев из России, американский физик Исаак (Айзек) Азимов. В своих фантастических книгах он создавал мир будущего, где все события и перспективы сосчитаны, учтены и управляются с позиций разума невероятно умными учеными .
Но, конечно же, абсолютное большинство европейских интеллектуалов становиться интеллигентами и не подумает. У них в отношении этого слова преобладает недоумение: они понимают, что их интеллектуалы и русские интеллигенты – не совсем одно и то же. Вот выразить, в чем различие, – это сложнее. Британская энциклопедия определяет интеллигенцию так: «Особый тип русских интеллектуалов, обычно в оппозиции к правительству».
Во всей Европе, а потом и во всем мире слово «интеллигенция» применяется в основном к странам «третьего мира» – к странам догоняющей модернизации. Так и пишут: «интеллигенция народа ибо», или «интеллигенция Малайзии». Там и правда есть интеллигенция, очень похожая на русскую! Как русская интеллигенция была не буржуазной, а патриархальной – так и эта патриархальна.
Но самое главное, как и русская интеллигенция XIX века, интеллигенция в Малайзии, Нигерии, Индии и Индонезии – это кучка людей, вошедших в европейскую культуру. Они – местные европейцы, окруженные морем туземцев. Их еще мало, общество остро нуждается в квалификации и компетентности – поэтому каждый ценен; эти люди занимают в обществе важное, заметное положение. Но в целом положение это двойственное, непрочное. Всякая страна «догоняющей модернизации» находится в эдаком неустойчивом, подвешенном состоянии: уже не патриархальная, еще не индустриальная.
В еще более расколотом состоянии находятся те, кто стал анклавом модернизации в такой быстро изменяющейся стране. Ведь раскол проходит по их душам. Они и европейцы и туземцы – одновременно. Европейцы – цивилизационно; туземцы – по месту своего рождения, по принадлежности к своему народу.
Как и русская, всякая местная интеллигенция бушует, подает кучу идей, политиканствует, пытается «указывать правильный путь». Ведь путь страны еще не определился, неясен, и есть куда прокладывать курс.
В середине – конце XX века во многих странах происходит то же, что происходило в России столетием раньше.
Интеллигенция и дворянство
Еще в начале XIX века существовал только один слой русских европейцев. В середине XIX века их два, и они не особенно нравятся друг другу. Дворяне считают интеллигенцию… ну, будем выражаться обтекаемо – считают ее недостаточно культурной.
По достаточно остроумному определению камергера Д.Н. Любимова, интеллигенция – это «прослойка между народом и дворянством, лишенная присущего народу хорошего вкуса».
А.К. Толстой попросту издевался над интеллигенцией, в диапазоне от сравнительно невинного:
Стоял в углу, плюгав и одинок,
Какой-то там коллежский регистратор.
И вплоть до «…мне доставляет удовольствие высказывать во всеуслышание мой образ мыслей и бесить сволочь» .
Как говорится, коротко и ясно.
Интеллигенция не оставалась в долгу, обзывая дворян «сатрапами», «эксплуататорами», «реакционерами» и «держимордами», причем не только в частных беседах, но и в совершенно официальных писаниях. Что «Пушкин не выше сапог» гражданин Писарев заявлял, что называется, «на полном серьезе». Ведь Пушкин – дворянин и не отражал чаяний трудового народа.
Во время похорон А. Некрасова его сравнили с Пушкиным… Мол, он в некоторых отношениях был не ниже. И тут же – многоголосый крик: «Выше! Он был намного выше!» Еще в 1950-1960-е годы можно было встретить стариков из народовольческой интеллигенции, которая ни в грош не ставила Пушкина, но обожала Некрасова и постоянно пела песни на его стихи.
Новое раздвоение сознания
И при всем этом на интеллигента – русского европейца тут же обрушивается та же раздвоенность сознания, что и на дворянина. Он тоже привыкает ругать страну, от которой родился и которую любит, служить тому, к чему относится с иронией.
Но у интеллигента появляется еще одно «раздвоение»: он – европеец, но он – недавний потомок туземцев. На интеллигента распространяются почти все привилегии дворянства – но у него есть не очень отдаленные предки, на которых эти привилегии вовсе не распространялись.
Интеллигент вполне искренне чувствует духовную родину в имениях старого дворянства, восхищается гением великих писателей с историческими фамилиями Толстой, Пушкин и Тургенев. Мы – русские европейцы, и история всех русских европейцев – наша история. Мы незримо присутствуем и при спорах Ломоносова с Байером, и на собрании первых выпускников Царскосельского лицея…
Все мы рано или поздно очень жестко осознаем это но: часть истории русских европейцев протекала без нас и наших предков. Ломоносов ругался с Байером, лицеисты кричали «виват» и пили шампанское – а наши предки в это время были туземцами. Может быть, они и принимали происходящее с ними как норму, как нечто естественное. Но мы-то не можем считать чем-то естественным ни парад-алле женихов и невест, строящихся по росту, ни борзого щенка у женской груди.
Попробуйте представить свою прапрапрабабку выкармливающей этого щенка или что ее порют все на той же легендарной барской конюшне. Лично у меня получается плохо: начинает кружиться голова.
Хорошо помню момент, когда водил свою подругу по Тригорскому – имению друзей А.С. Пушкина. Там сейчас исторический и ландшафтный заповедник, и в нем работала экспедиция: раскапывалось городище Воронич, на котором так любил бывать Пушкин. Подруга приехала позже, я со вкусом показывал ей парк, барский дом, излучины Сороти, раскопки знаменитого городища…
– А знаете, я все равно как-то ищу глазами – где здесь была барская конюшня… – тихо уронила подруга к концу дня.
Это было в точности и мое ощущение. Причем я помню историю своей семьи с эпохи Александра I. Крепостными они не были уже в ту эпоху. Подруга – крестьянка в третьем поколении, и ее предки в Тригорском никогда не жили. Так что память эта – не семейная, не кровная. Это память своего сословия. Той части народа, к которой принадлежит интеллигенция или потомки интеллигентов.
Мы – русские европейцы, нет слов… но мы другие, чем дворяне. И нас многое разделяет с дворянами. Даже в XXI веке какой-то камень за пазухой все-таки остается.
Интеллигенция и народ
Но в одном, по крайней мере в одном, дворянство и интеллигенция были глубоко едины – в их отношении к народу. Спор шел только о том, кто же будет руководить этим самым народом: дворянство или интеллигенция? Или один из «орденов борьбы за что-то там»?
Дворянство вело народ к светлым вершинам прогресса, поколачивая для вразумления: выжившие потом оценят, битые научатся.
Интеллигенция может говорить все, что угодно, но делает-то она то же самое. Те же претензии на руководство, на владение высшими культурными ценностями, на знание, «как надо». То же деспотическое требование к «народу» переделываться на интеллигентский лад. То же отношение к основной части народа как к туземцам, подлежащим перевоспитанию.
Из книги Великая Гражданская война 1939-1945 автораГражданская война, как и было сказано По данным подпольного Орловского областного комитета ВКП(б), в июле 1942 года на территории Орловской области действовали 60 партизанских отрядов общей численностью 25 240 человек. По немецким данным, непосредственно против Локотской
автора Буровский Андрей МихайловичИМПЕРИЯ, КАК И БЫЛО СКАЗАНО Пётр I нарек свое государство империей. Скорее он выдавал желаемое за действительное. При Елизавете Российская империя выиграла Семилетнюю войну и показала себя как могучая европейская держава. С ней стали считаться. Её стали бояться.Имперское
Из книги Правда о «золотом веке» Екатерины автора Буровский Андрей МихайловичТУЗЕМЦЫ, КАК И БЫЛО СКАЗАНО Но полное и удручающее бесправие - это только одна из бед, которые свалились на основную часть народа… и может быть, даже не самое ужасное зло.Судя по всему, еще страшнее в их положении было принадлежать к категории туземцев, находящихся за
Из книги Самая страшная русская трагедия. Правда о Гражданской войне автора Буровский Андрей МихайловичГлава 5 АППАРАТ, КАК И БЫЛО СКАЗАНО Те, кому было хорошоЗимой 1917/18 года из Петрограда бежало не меньше миллиона человек из трех миллионов прежнего населения. Десятки тысяч людей умерли от голода и холода в своих нетопленых квартирах. В городе не работала канализация и
Из книги Россия, умытая кровью. Самая страшная русская трагедия автора Буровский Андрей МихайловичГлава 5 Аппарат, как и было сказано Те, кому было хорошоЗимой 1917/18 года из Петрограда бежало не меньше миллиона человек из трех миллионов прежнего населения. Десятки тысяч людей умерли от голода и холода в своих нетопленых квартирах. В городе не работала канализация и
Из книги Россия при старом режиме автора Пайпс Ричард Эдгар Из книги «Еврейское засилье» – вымысел или реальность? Самая запретная тема! автора Буровский Андрей МихайловичВладыки мира, как и было сказано В России до сих пор великой тайной окружен своего рода «пломбированный пароход», на котором Лев Троцкий с компанией ехал в Россию в 1917 году. Про «пломбированный вагон» уже и ленивый не написал, а вот как насчет парохода?Этот же
автора Буровский Андрей МихайловичТуземцы, как и было сказано К середине – концу XVIII века русский народ явственно разделяется на два… ну, если и не на два народа в подлинном смысле, то по крайней мере на два, как говорят ученые, субэтноса. У каждого из них есть все, что полагается иметь самому настоящему
Из книги Нерусская Русь. Тысячелетнее Иго автора Буровский Андрей МихайловичСтабильность, как и было сказано Со времен Екатерины любой новый монарх будет иметь дело с этой толщей: с множеством организованных, вооруженных людей, умеющих собраться, выбрать себе предводителей. С осознающими свои права и интересы владельцами почти всей земли и
Из книги Проект Россия. Выбор пути автора Автор неизвестенГлава 9 Интеллигенция Рассматривая и анализируя одну из ключевых проблем современности - место и роль интеллигенции в укреплении или разрушении моральных устоев общества, мы исходили из непредвзятости и старались быть объективными. Готовы выслушать мнение всех
Из книги Русская революция. Агония старого режима. 1905-1917 автора Пайпс Ричард Эдгар Из книги Запрещенный Рюрик. Правда о «призвании варягов» автора Буровский Андрей МихайловичВаряжский Рюрик, как и было сказано Конкретно «нашего» Рюрика отождествляют иногда с конунгом Рериком из Хедебю в современной Дании. Известно о нем немного - в основном, что умер он до 882 года.По другой версии, Рюрик - это Эйрик Эмундарсон, конунг Шведского государства со
Из книги Запретная правда о русских: два народа автора Буровский Андрей МихайловичГлава 3 ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, КАК И БЫЛО СКАЗАНО Растет на чердаках и в погребах Российское духовное величие. Вот выйдет, и развесит на столбах Друг друга за малейшее отличие. И. Губерман Одни интеллектуалы разумом пользуются, другие разуму поклоняются. Г.К.
Из книги Загадка Розуэлла автора Шуринов БорисГлава 21. От «было - не было» к поискам места катастрофы А если допустить, что продавец кинодокумента ничего не путает, называя Сокорро-Магдалину, что это мы пытаемся обмануть самих себя и привязать фильм к случаю, который нам теперь сравнительно хорошо известен? Для
Из книги Пути следования: Российские школьники о миграциях, эвакуациях и депортациях ХХ века автора Щербакова Ирина Викторовна«Все это было, было, было…» Судьба семьи спецпереселенцев из Нижнего Поволжья Анна Молчанова, Анна Носкова П. Первомайский Сысольского района Республики Коми, научный руководитель Т.А. Попкова О замысле работы и авторах воспоминанийНесколько лет подряд мы, две
Из книги Нетерпение мысли, или Исторический портрет радикальной русской интеллигенции автора Романовский Сергей Иванович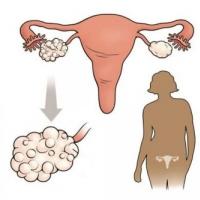 Поликистоз яичников: симптомы, диагностика, лечение Врожденный поликистоз яичников
Поликистоз яичников: симптомы, диагностика, лечение Врожденный поликистоз яичников Противозачаточные таблетки "Димиа": отзывы, инструкция по применению, побочные эффекты Димиа применение
Противозачаточные таблетки "Димиа": отзывы, инструкция по применению, побочные эффекты Димиа применение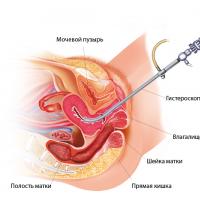 Сколько длятся выделения после гистероскопии
Сколько длятся выделения после гистероскопии Рождественский глинтвейн
Рождественский глинтвейн Куриный шашлычок на шпажках Как замариновать курицу для шашлыка
Куриный шашлычок на шпажках Как замариновать курицу для шашлыка Торт Птичье молоко в домашних условиях: вкусные рецепты с фото
Торт Птичье молоко в домашних условиях: вкусные рецепты с фото Заготовка из резаных огурцов с горчицей на зиму
Заготовка из резаных огурцов с горчицей на зиму