Хоффманн йоахим история власовской армии. Цена победы. Офицеры власовской армии Генерал Андрей Власов
РОА И ПРАЖСКОЕ ВОССТАНИЕ
Марш 1-й дивизии РОА с Одерского фронта в Богемию отвечал плану, разработанному на последнем заседании президиума КОНР 28 марта 1945 года в Карлсбаде{438}. Тогда было решено стянуть все части РОА в одном пункте в районе Альп и там соединиться с 15-м Казачьим кавалерийским корпусом, формально тоже подчиненным Власову. Руководители РОА надеялись таким образом продемонстрировать силу и мощность армии и привлечь политический интерес западных держав, которые пока относились к власовской армии весьма прохладно. На случай, если бы в обозримом будущем не произошло ожидаемого разрыва союзнической коалиции, предполагалось присоединиться к отрядам четников бывшего военного министра югославского королевского правительства в изгнании Драга Михайловича и продолжать борьбу в горах Балкан до изменения общей обстановки{439}. Обсуждался в КОНР также и весьма авантюрный с виду план — пробиться к Украинской повстанческой армии (УПА), которая до сих пор представляла собой значительную силу в тылу у советской армии{440}. Подходящим местом для соединения армии казался сначала Инсбрук, так как оттуда можно было в любую минуту уйти через альпийский переход Бреннер на юг{441}. Власов думал также и о Зальцбурге, но потом он оставил мысль об объединении своих войск в районе "альпийского укрепления", предпочитая держаться подальше от эсэсовских "янычар", которые, как он предполагал, там находились. Во второй половине апреля, когда южная группа РОА (армейский штаб, офицерская школа, 2-я дивизия, запасная бригада и другие части) вышла в поход, a обширные области Южной Германии уже были заняты американскими и французскими войсками, единственным местом для сосредоточения армии оставался лишь район между Будвайсом и Линцем, "богемские леса"{442}. Части РОА начали постепенно прибывать туда, но в это время северной группе (1-я дивизия) представилась возможность, не предусмотренная первоначальным планом, — присоединиться к национальному чешскому восстанию, которое как раз разгоралось в той области, куда вступили русские войска. Руководство 1-й дивизии далеко не сразу решилось на этот шаг, понимая, что чешское национальное восстание плохо организовано и плохо вооружено, а главное — внутри него нет политического единства{443}. Только коммунистические группировки, в которых находились сброшенные на парашютах советские агенты, четко представляли себе свои цели: они стремились не просто к национальному освобождению, но и к радикальным социальным переменам. Именно поэтому Буняченко весьма осторожно отнесся к попыткам сближения, предпринятым представителями местных партизан{444}. Начальник управления безопасности КОНР подполковник Тензоров, в конце апреля встретившийся в сопровождении группы вооруженных солдат РОА в местечке Лани с чешскими офицерами (которые на самом деле были переодетыми советскими агентами), немедленно отклонил все предложения о совместных действиях РОА и Красной армии. А командир полка 1-й дивизии отказался встретиться с офицером Красной армии, который находился у чешских партизан{445}. Точки соприкосновения могли возникнуть только после формирования в Праге 30 апреля национального чешского руководства восстанием — группы "Алекс" под командованием генерала Слунечко, опиравшейся в основном на соединения правительственных войск, жандармерии, полиции и т.п. и представлявшей собой военную единицу, родственную РОА. В это время была также организована военная группа "Бартош", взявшая на себя фактически военное командование восстанием. Командиром "Бартоша" был генерал Кутлвашр, а начальником штаба — подполковник Бюргер. Когда делегация этой группы появилась в Козоедах, где стояла 1-я дивизия (по-видимому, это случилось 2 мая{446}), с предложением принять участие в предстоящем антинемецком восстании, многим показалось, что это выход из безнадежного положения. Подполковник Артемьев пишет:
Поздним вечером в дивизию прибыла делегация чешских офицеров, отрекомендовавшихся представителями штаба восстания. Делегаты заявили, что в Праге готовится восстание, которое нуждается в помощи и поддержке. Откладывать восстание нельзя, потому что немцы могут узнать о нем и тогда оно обречено на провал. Они надеются единственно на власовскую армию и безоговорочную поддержку "власовцев". "Чешский народ, — сказали они, — никогда не забудет, что вы помогли нам в трудный час"*.
На совещании, созванном Буняченко, все командиры полков и прочие офицеры дивизии, в том числе и начальник штаба подполковник. Николаев, высказались за помощь восставшим и за союз с чехами. Исключение снова составил командир 1-го полка подполковник Архипов-Гордеев. Много лет спустя он писал полковнику Позднякову: "Еще раз напоминаю Вам, что я был против похода на Прагу и высказал это на военном совете незадолго до похода""*{447}.

Участие дивизии в чешском восстании, за которое однозначно высказался Буняченко, означало открытый разрыв с немцами и нарушение решения КОНР от 28 марта 1945 года. Какую же позицию занял в этом вопросе Власов? Главнокомандующий, более всех в РОА ратовавший за союз с немцами, и на сей раз, похоже, не отступил от своей политической линии. Оберфюрер Крёгер, бывший последние полгода немецким представителем у Власова и его доверенным лицом, характеризует генерала как человека, "которому были отвратительны всякий обман и предательство", который обладал "прямым характером" и "упорно шел к цели, не прибегая к обходным маневрам или каким-либо интригам — словом, был настоящим солдатом" 11. Кроме того, важную роль, вероятно, сыграло тут и неверие Власова в успех Пражского восстания.
Еще 16 апреля 1945 года Сергей Фрелих связался по поручению Власова с чешским генералом Клецандой на предмет выяснения возможностей союза с чешским национальным движением до прихода американских войск l{448}. Теоретически такая комбинация представлялась вполне реальной, поскольку (и это признает даже коммунистический чешский автор Бартошек) "как немецкие фашисты, так и державы антигитлеровской коалиции (США и Англия) и силы в Чехословакии, причислявшие себя якобы к антифашистскому фронту," — все хотели, чтобы Прагу заняли американцы{449}. Однако в начале мая подобные предположения потеряли всякий смысл{450}. Даже сам генерал Клецанда считал план бесперспективным. Зная психологию западных правительств, он не надеялся на их поддержку и, кроме того, считал, что большая часть населения Чехословакии по крайней мере поначалу приветствовала бы советские войска как освободителей. Поэтому никаких возможностей для совместных действий с Власовым он не видел.
Все это заставило Власова отказаться от мысли о временном союзе с чехами, и теперь он никак не мог согласиться с Буняченко, рисовавшим ему радужные перспективы: чешское национальное антикоммунистическое правительство предоставит дивизии политическое убежище и непременно добьется признания западных держав, у которых тогда просто не останется другого выхода, как терпеть Русское освободительное движение{451}. Для Власова важней всего была позиция американцев, с которыми, по его мнению, следовало вступить в прямые переговоры, без всяких обходных путей. К тому же ему явно не хотелось наносить удар в спину немцам, и не потому, что он питал к ним симпатию, но скорее всего просто из нежелания взваливать на себя осложнения, связанные с переменой фронта. Очевидно, он до последней минуты рассчитывал на возможность совместного выступления западных союзников с немцами против наступающей советской армии{452}. И вполне вероятно, что не он один думал об этом. Стоит вспомнить хотя бы о тайных мероприятиях, проводимых весной и летом 1945 года английским правительством и командующим 21-й группой армий фельдмаршалом Монтгомери{453}. Впрочем, возможно, что главным фактором, определившим позицию Власова, было его глубокое разочарование, и это само по себе очень важно{454}. Так, по одной из версий, Власов ушел с военного совета 1-й дивизии РОА со словами: "Если мои приказы больше не являются для вас обязательными, то мне здесь нечего делать"*{455}. Согласно другим источникам, его слова были не столь резкими. Во всяком случае, он был против пражской акции и, как свидетельствует немецкий адъютант генерала Ашенбреннера старший лейтенант Бушман, его угнетала перспектива военных действий против немцев{456}. Тем не менее, не давая Буняченко официального согласия, он в конце концов предоставил командиру 1-й дивизии полную свободу действий{457}. По мнению доктора Крёгера, в этой отчаянной ситуации генерал решил не вмешиваться, чтобы не мешать последней, пусть даже во многом иллюзорной, возможности спасения. Измученный болезнью, Власов поселился в небольшом замке западнее Праги и оттуда по донесениям следил за ходом событий{458}.
Утром 4 мая дивизия, с полком Сахарова в арьергарде, продолжила свой марш в юго-восточном направлении. Вечером, пройдя через реку Бероунку, она достигла окрестностей Сухомасти, где расположился дивизионный штаб. На следующее утро в результате переговоров между руководством дивизии и офицерской делегацией группы "Бартош" (по-видимому, во главе с майором Машеком) было подписано соглашение о помощи{459}. К сожалению, подлинник этого важного документа утерян, но его содержание в основном поддается реконструкции. Начальник штаба дивизии подполковник Николаев передал документ майору Швеннингеру, перевел и объяснил отдельные пункты{460}. Как после войны вспоминал Швеннингер, это было соглашение русских и чехов о совместной борьбе против "нацизма и большевизма". В таком же тоне были написаны и листовки на чешском и русском языках, в которых дивизия при вступлении в Прагу призывала "чешских и русских братьев" к борьбе как против "национал-социалистической Германии", так и против "большевизма"{461}. Идея борьбы против "большевиков и немцев" находит отражение также в рапорте, поданном в группу "Бартош" б мая в 0.44 часов чешским полковником, комендантом города Требон, о переговорах, по-видимому, с командиром 2-й дивизии РОА генерал-майором Зверевым{462}. На этом моменте стоит остановиться, потому что советские источники пытаются создать впечатление, будто только отдельные неорганизованные группы власовцев, на свой страх и риск и вопреки приказу командиров, начали борьбу против "немецких оккупантов", надеясь "оправдаться в своих преступлениях против человечества" и тем самым хотя бы отчасти заслужить прощение советской власти{463}. В действительности речь идет отнюдь не об отдельных группах: на основании русско-чешского военного соглашения от 5 мая 1945 г. в пражском восстании приняла участие вся 1-я дивизия РОА. Выступление против немцев никак не изменило антибольшевистских настроений русских солдат и отнюдь не означало разгула враждебности по отношению к немцам. Для командования дивизии речь шла лишь о решении, связанном с определенной политической ситуацией, что не оставляло места для каких-либо эмоций против бывших союзников.
Во избежание конфликтов с мирным населением и местными властями Буняченко издал строгие приказы, еще когда дивизия находилась в Германии{464}. Нарушения, связанные с воровством, и прочие мелкие проступки разбирались офицерами на месте, и потерпевшим щедро возмещались понесенные убытки. В более серьезных случаях полагались строгие наказания. Так, военный суд дивизии, приговорил к смертной казни за грабежи и мародерство по меньшей мере одного солдата, который сразу после вынесения приговора был расстрелян перед строем, чтобы, как заявил Буняченко, все видели в РОА высокодисциплинированную армию, чтобы никому, "в том числе и нашим врагам, не давать повода упрекнуть нас. В этом наша честь и наше спасение". Хотя, по наблюдениям майора Швеннинге-ра, офицеры до самого конца "крепко держали в руках" своих людей{465}, после вступления в Богемию в дивизии наметился некоторый спад и ухудшение дисциплины. Солдаты завязывали теплые отношения с чехами и вскоре почувствовали себя хозяевами в области. Случаи нарушения дисциплины участились: русские начали мешать военным передвижениям, доходило даже до столкновений солдат РОА с немецкими органами инспекции и служащими вермахта{466}. Есть сведения о разграблении военных складов. В одном месте солдаты наткнулись на запас метилового спирта для двигателей реактивных самолетов: в результате многие умерли или тяжело заболели. Серьезное столкновение между русскими и немцами случилось 2 мая 1945 года, когда штаб-квартира дивизии находилась еще в Козоедах. В соседнем городке Лоуни два офицера — лейтенант Семенов, недавний адъютант командира дивизии, сын советского генерала, и старший лейтенант Высоцкий — в поисках бензина на вокзале начали по собственному почину проверять документы солдат в эшелоне и отбирать у них оружие. В результате завязалась беспорядочная перестрелка, погибло шесть русских, в том числе и Семенов, и четыре немца, многие были ранены. Русские и немецкие участники инцидента были доставлены в штаб дивизии, и Власов немедленно приказал провести расследование, в ходе которого была неопровержимо доказана вина русских, в первую очередь — Семенова. Власов, по сведениям многих источников, был крайне возмущен поведением своих солдат{467}. Высоцкого спасло от ареста лишь то, что генерал знал его еще со времен его службы в личной охране Власова, да еще то, что Высоцкий отличился при наступлении в феврале 1945 года у Ней-Левина. Немцев, среди которых было несколько офицеров, по приказу Власова тут же отпустили, дав им надежную охрану. Но этим конфликт не кончился: власовцы, решив отомстить, застрелили позднее несколько солдат и офицера из этой части, никак не связанных с эпизодом на вокзале.
Тем не менее перемена фронта, решение о которой было принято 5 мая, была осуществлена, по желанию руководства дивизии, без излишней резкости. Об этом можно судить по отношениям с немецкой группой связи. Утром 5 мая майора Швеннингера встретили в штабе дивизии с тем же радушием, что и всегда. Правда, офицер разведки капитан Ольховник потребовал, чтобы немецкий майор сдал оружие, но при этом передал извинения командира дивизии{468}. Начальник штаба подполковник Николаев счел своим долгом немедленно со всей точностью и прямотой сообщить Швеннингеру о случившемся. Он разъяснил майору, что ввиду надвигающегося крушения рейха они больше не могут связывать свои надежды с немцами, а с другой стороны, им никак нельзя "попасть в руки Советам", и поэтому единственный выход для них — это пойти навстречу просьбе представителей чешского национального движения о помощи, в надежде получить политическое убежище в новой Чехословакии. Перед офицерами группы связи был поставлен выбор:
Либо чехи немедленно переправят их в Германию, либо они могут и дальше оставаться в дивизии на положении пленных. При этом Буняченко просил передать Швеннингеру, что, если тот останется в дивизии, генерал и впредь будет с благодарностью прислушиваться к его советам. Швеннингер и его штаб доверяли Николаеву больше, чем чехам, и предпочли остаться с дивизией, однако другие немцы были немедленно вывезены чехами и на следующий день оказались в Германии.
Утром 5 мая, когда русско-чешские переговоры успешно завершились, в Праге спонтанно началось восстание против немецких оккупационных властей. Хотя в тот момент немцы уже сами решили отказаться от власти в протекторатах Богемия и Моравия, восстание могло, в случае успеха, отрезать путь к отступлению на запад расположенных восточнее Праги сил группы армий " Центр". Уже в первый час повстанцам, среди которых было немало сброда, удалось овладеть половиной города, и они жестоко расправлялись с мирным населением и пленными{469}. Но стоящие в окрестностях Праги хорошо вооруженные немецкие части утром б мая перешли в наступление и в течение дня сильно потеснили повстанцев. 5 мая 1-я дивизия РОА вышла из района Бероун — Сухомасти несколькими колоннами к Праге. Им предстояло пройти 50 километров. Днем разведотряд под командованием майора Костенко был послан в район к юго-западу от Праги. За ним на правом фланге следовал 1-й полк под командованием подполковника Архипова, прорвавшийся через Литтен — Корно к Радотину, к юго-востоку от города{470}. На левом фланге вдоль шоссе Бероун — Прага двигался 3-й полк под командованием подполковника Александрова-Рыбцова и 4-й полк под командованием полковника Сахарова, а в центре по шоссе Сухомасти — Корно — Будняны — Моржина — Кухарж — Ржепорие — Йинонице шел 2-й полк под командованием подполковника Артемьева и дивизионные части и подразделения. Дивизионный штаб 5 мая находился в Бутовице, а с 6 мая до конца пражской операции — в пригороде Йинонице. Вечером 5 мая русские войска вошли в город. С запада в Прагу ворвался колесный взвод 2-го полка под командованием лейтенанта Золина{471}, а разведотряд с юго-запада достиг Радотина и двигался дальше по берегу Влтавы к Збраславу (Кенигзаал). Жители Праги встретили власовцев как освободителей{472}. В ночь на б мая дивизионный штаб и представители группы "Бартош" распределили цели атаки в Праге. Поскольку солдаты 1-й дивизии были в немецкой форме, их решили снабдить трехцветными — бело-сине-красными — флагами.
Бои 1-й дивизии в Праге начались днем 6 мая атакой на аэродром Рузине, находившийся к северо-западу от города. На этом самом крупном из пражских аэродромов в то время располагалась б-я боевая эскадрилья, боевое формирование под названием Хогебак, усиленное звеньями нескольких истребительных эскадрилий с реактивными истребителями типа Ме-262{473}. Немецкое командование пока еще рассчитывало удержать за собой аэродром и прилегающую территорию с казармами, а группа "Бартош" придавала захвату Рузине особое значение — во-первых, чтобы исключить возможность использования аэродрома немцами для операций Люфтваффе, а во-вторых, чтобы дать возможность для посадки самолетам западных держав, на помощь которых все еще рассчитывали повстанцы. Генерал-майор Буняченко пошел навстречу пожеланиям чехов: утром 6 мая 3-й полк под командованием подполковника Александрова-Рыбцова свернул с шоссе Бероун — Прага на север, в направлении Храштаны — Собин — Гостивице. Боям за аэродром предшествовали несколько попыток переговоров, оставшиеся, однако, безрезультатными и приведшие даже к трагическим последствиям. Находясь на подступах к аэродрому, 1-й полк вступил через парламентера в контакт со штабом эскадрильи: по немецким источникам — с целью договориться о перемирии, по русским (которые, кажется, ближе к истине) — чтобы добиться немедленной сдачи аэродрома. После безуспешных переговоров только что приземлившийся в Рузине начальник штаба 8-го авиакорпуса полковник Зорге, бывший начальник штаба при генерал-лейтенанте Ашенбреннере, вызвался лично отправиться к власов-ским войскам{474}, по-видимому, полагая, что вчерашние союзники стали врагами в силу недоразумения, тем более что, как ему было известно, все войска РОА должны были соединиться у Будвайса. Заявив, что Власов — его лучший друг и что он уладит все дело за несколько минут, Зорге распорядился предоставить ему машину. Однако вскоре после отъезда Зорге его адъютант капитан Кольхунд вернулся один с ультиматумом: если аэродром не капитулирует в ближайшее время — власовцы расстреляют полковника. И солдаты РОА выполнили свое обещание: Зорге, немало сделавший для создания ВВС РОА и достижения взаимопонимания между русскими и немцами, был расстрелян. Этот эпизод можно сравнить с не менее трагической историей убийства капитана Гавринского немецкими солдатами на вокзале в Нюрнберге. Однако детали этого дела остались невыясненными{475}.
Тем временем на немецкой стороне начал действовать командующий 8-м авиакорпусом генерал Зейдеман, которому подчинялась 6-я эскадрилья (боевое формирование Хогебак). б мая Зейдеман приказал адъютанту генерал-лейтенанта Ашенбреннера старшему лейтенанту Бушману, который находился в частях первого авиаполка РОА, ушедших из Немецкого Брода, выяснить "недоразумение" с власовскими частями. После безуспешной попытки встретиться с Власовым Бушман перелетел на самолете "Физель Шторх" в район южнее Рузине, но там самолет сбили части 3-го полка, и Бушман был ранен, не выполнив задания. По распоряжению Александрова-Рыбцова, его в бессознательном состоянии доставили в дивизионный лазарет в Йинонице, где он пробыл до конца пражской операции. Это был тот самый летчик, который еще два дня назад предлагал переправить Власова в Испанию, и русские при отступлении не бросили его на произвол судьбы, а взяли с собой в санитарной машине{476}.
Воздушная разведка заблаговременно сообщила немцам о вступлении "всей власовской армии по нескольким шоссе в район Прага — Рузине". Когда попытки переговоров провалились и передовые отряды "прекрасно вооруженных и оснащенных власовских частей" уже вели бои с немцами, штаб эскадрильи принял решение неожиданно напасть на русские колонны всеми имевшимися в распоряжении самолетами Ме-262 и расстрелять их с бреющего полета. Эта атака остановила батальоны 3-го полка, танки которых безуспешно пытались прорваться на взлетно-посадочную полосу и которые затем начали обстрел аэродрома из гранатометов и тяжелых пехотных орудий, не решаясь двигаться дальше. Но к тому моменту аэродром утратил свое значение для немцев. Боеспособные немецкие машины были переведены в Заац, а немецкие экипажи на следующее утро прорвались через русское кольцо окружения. Однако аэродромом 3-й полк РОА овладел лишь после многочасовой перестрелки с опытным арьергардом Ваффен-СС.
В это время разведотряд под командованием майора Костенко находился еще в районе Радотин — Збраслав, фронтом на юг. Утром 6 мая в штабе дивизии в Йинонице шло совещание командиров. В 10 часов командир отдела разведотряда сообщил по радио, что его теснят части Ваффен-СС с шестью танками "Тигр" и он отходит вниз по Влтаве в направлении пражского пригорода Смихов{477}. Буняченко немедленно приказал Архипову, командиру 1-го полка, идущего из Корно, отправляться на выручку Костенко. В результате неожиданной атаки 1-го полка немецкая боевая группа "Молдауталь" (части дивизии СС "Валленштейн"), занявшая берег Влтавы между Збраславом и Хухле, была днем отброшена к югу на другой берег{478}. Подполковник Архипов, полк которого пробился через Смихов в район мостов Ирашека и Палацкого, до вечера оставил для охраны мостов через Влтаву роту с противотанковой пушкой. 6 мая 1945 года, около 23 часов, основные силы 1-й дивизии РОА заняли линию Рузине — Бржевнов — Смихов — берег Влтавы — Хухле. 1-й полк находился в районе между Смиховым и мостами через Влтаву, 2-й полк — у Хухле — Сливенеца, 3-й полк — у Рузине — Бржевнова, 4-й полк и разведотряд — в Смихове и к северу от него. Артиллерийский полк занял огневые позиции на Цлиховских высотах, оборудовав передовые наблюдательные пункты.
Как развивались в эти дни отношения между русскими и чехами? Этот вопрос имеет решающее значение для оценки пражской операции. Основой для участия 1-й дивизии РОА в Пражском восстании послужило русско-чешское военное соглашение, подписанное в Сухомасти 5 мая. Даже просоветские авторы признают, что власов-ские войска вошли в столицу "по инициативе и по просьбе чехословацких офицеров и офицерских групп в Праге и провинциях" и что при них находились полномочные чехословацкие офицеры связи{479}. Но после захвата Праги советскими войсками группа "Бартош", заключившая соглашение с Буняченко, ухитрилась исказить этот очевидный факт. 11 мая 1945 г. генерал Кутлвашр письменно заявил "командованию Красной армии в Праге", что РОА вмешалась в восстание "по собственной инициативе" и по наущению чешских офицеров, находившихся в районе дислокации дивизии, но отнюдь не на основании решения группы "Бартош". Имеются, однако, неопровержимые доказательства тесного сотрудничества чешской группы с командованием русской дивизии{480}. Так, 6 мая в 5.30 часов "Бартош" приказал генералу Фишеру, находившемуся в Кладно, немедленно "вместе с власовцами" пробиться с запада на Прагу и прежде всего в ускоренном темпе занять район Рузине с аэродромом. Через двадцать минут, в 5.50, пражское радио, которым овладели повстанцы, впервые обратилось к "офицерам и солдатам власовской армии" с просьбой о помощи. Потом эти обращения повторялись несколько раз. Капитан Рендль, комендант летней резиденции президента в Лани, который просил Буняченко оказать помощь восставшим, б мая в 13 часов получил от генерального инспектора правительственных войск полномочия присоединиться к русскому дивизионному штабу в качестве офицера связи. В тот же день в 17.30 подполковник Шкленарж из группы "Бартош" сообщил о "приближении значительных сил наших помощников", которые шли к Праге тремя колоннами по трем шоссе: 1. Радотин — Хухле — Смихов; 2. Душники — Мотол — Коширже; 3. Йинонице — Бржевнов — Дей-вице.
По распоряжению группы "Бартош" навстречу русским в качестве советника был выслан знакомый с местностью офицер — очевидно, лейтенант Хорват. 6 мая в 17.35 была издана директива использовать власовцев для укрепления участков обороны{481}. В это же время в группу "Бартош", расположенную на Бартоломейской улице, явились несколько офицеров РОА. Им выдали карту с обозначением главных центров сопротивления и подробно обсудили назначенное на 7 мая вступление 1-й дивизии в Прагу. Кроме того, "Бартош" предоставил русским нескольких проводников, хорошо знающих местность.
Из изложения этих событий видно, что чешские военные круги, — а они были ведущей силой на первой стадии Пражского восстания, не видели ничего предосудительного в сотрудничестве с армией генерала Власова. Это подтверждает также бывший полковник главного политического управления министерства обороны Чехословацкой народной армии доктор Степанек-Штемр{482}, который в ночь на 10 мая прибыл в Прагу в качестве начальника отдела связи 1-го Чехословацкого корпуса, сформированного в СССР. Степанек-Штемр рассказывает, что среди офицеров штаба корпуса и даже среди политработников, которые в подавляющем большинстве своем были коммунистами, он не слышал "ни одного дурного слова... о приглашении власовцев и их выступлении на стороне чехов против немцев в Праге". Против идеи русско-чешского сотрудничества возражали не вооруженные силы, а Чешский национальный совет (ЧНС), постепенно захвативший политическое руководство восстанием и сумевший подчинить себе военное командование Праги. До прибытия в город правительства Бенеша, которое находилось в Кошице, Совет представлял правительственную власть. Значительную роль в нем играли коммунисты, и он стремился с самого начала установить добрые отношения с Советским Союзом. Поэтому позиция Совета в отношении РОА, столь неожиданно вступившей в игру, была весьма противоречивой. С одной стороны, в ЧНС понимали, что русские силы, располагавшие "танками, артиллерией и тяжелым оружием", могут стать большим подспорьем для чешских повстанцев, плохо вооруженных и не выдерживающих натиска немцев, и не возражали против этой помощи. С другой — Совет изо всех сил старался политически отмежеваться от своих помощников. Эта двойственная позиция проявилась утром 7 мая, когда в 7.45 посланный навстречу частям РОА офицер связи Хорват в сопровождении капитана РОА Р. Антонова появился на Бартоломейской улице, в резиденции Совета, и его члены впервые были вынуждены определить свое отношение к 1-й дивизии.
Сын офицера царского флота, капитан Антонов рано осиротел, был беспризорником. Командуя батареей реактивных минометов ("катюш"), попал под Сталинградом в плен, с 1943 года был личным адъютантом Власова. В ЧНС его, вероятно, прислал сам Власов{483}, который, как мы уже говорили, хотя и не вмешивался в пражские события, по-видимому, все же счел своим долгом выяснить отношение новой политической организации к РОА. Во всяком случае, утром 7 мая Антонов намеревался передать ультиматум, в котором Буняченко требовал от немецкого государственного министра Богемии и Моравии франка капитулировать до 10.00, в противном случае он, Буняченко, "перейдет в наступление на Прагу" (которое, впрочем, уже началось){484}. Столь решительное требование, имевшее серьезное политическое значение, да еще к тому же и выдвинутое самовольно, вызвало энергичное сопротивление Совета, чрезвычайно озабоченного собственным престижем.
Исполняющий обязанности председателя Совета рьяный коммунист Смрковский немедленно начал препираться с капитаном Антоновым{485}, возражая против требования о капитуляции и попытки самостоятельно вступить в переговоры с Франком, утверждая, что это внутреннее чешское дело. Он заявил, что только "чешский народ, который поднял восстание", то есть, иными словами, ЧНС, имеет право и полномочия вести переговоры о капитуляции немцев. Стоит отметить, что Смрковский и другие коммунисты, такие как Давид и Кубат, особенно резко выступавшие против соглашения ЧНС с власовской армией, согласились, однако, с требованием "буржуазных" политиков принять помощь РОА, избегая признания армии как политической силы и не компрометируя тем самым Совет{486}. Во всяком случае, им было важно подчеркнуть монополию ЧНС во всех политических делах. Необходимые переговоры с власовской армией были, таким образом, ограничены контактами с группой "Бартош", которая в свою очередь была связана указаниями ЧНС.
После бурных дебатов о том, какую позицию занять в отношении РОА, капитан Антонов был вызван на пленум ЧНС, где генерал Кутлвашр, владевший русским, перевел ему заявление Смрковского{487}: 1. Чешский национальный совет, являясь представителем правительства, обладает в районе Богемии единоличным правом принятия решений по всем военно-политическим вопросам.
2. Чешский национальный совет благодарит войска генерала Власова, которые, вняв переданной по радио просьбе, поспешили на помощь сражающемуся народу Праги.
3. Войска генерала Власова, то есть части 1-й дивизии РОА, должны координировать все свои действия с чешским военным командованием (группой "Бартош").
4. Все переговоры с противником ведутся чешским военным командованием по согласованию с командованием русской дивизии.
5. Чешское военное командование воздерживается от требования о капитуляции всех немецких сил, однако самостоятельно действующие русские части имеют право самостоятельно принимать капитуляцию противостоящих им сил врага.
После консультации с командиром дивизии капитан Антонов еще раз подчеркнул, что русские войска не собираются вмешиваться в чешские внутренние дела, они пришли сюда лишь для того, чтобы "помочь чешскому народу"{488}. По уполномочию Буняченко, он подписал предварительное соглашение, так что теперь, кроме военного соглашения от 5 мая, было создано также нечто вроде политического обоснования для вмешательства 1-й дивизии РОА. Утверждение, что коммунисты с самого начала отказались иметь дело с "предателем родины" Власовым, не говоря уж о заключении соглашения с ним, опровергается тем простым фактом, что все силы, представленные в Чешском национальном совете, в том числе и коммунисты, одобрили заявление, подписанное Антоновым.
Коммунисты начали ставить под сомнение содержание предварительного соглашения только после того, как утром 7 мая капитан Антонов подписал документ. Представитель коммунистической партии Чехословакии и военной комиссии Национального совета Давид, впоследствии — министр иностранных дел ЧССР, потребовал не отправлять Власову короткое письмо с выражением благодарности от имени ЧНС, так как это может "оказать непредвиденное воздействие на позицию СССР и повлиять на советскую помощь". Он считал, что даже упоминания имени Власова в связи с восстанием достаточно для того, чтобы породить в Москве политическое недоверие к этому предприятию и "наложить позорное пятно на всю нашу борьбу того периода"{489}. Давид рекомендовал больше не вести переговоров с Власовым и дезавуировать только что принятое соглашение, советуя вместо этого прямо обратиться к власовцам, минуя начальство. Этот совет, кстати, говорит о том, насколько основательно изучил Давид солдатскую психологию и сам дух РОА. В дивизии могут оказаться, как он выразился, либо "честные солдаты", тогда они в любом случае "будут по-прежнему сражаться на стороне чешского народа", либо "преступный сброд", который последует за своим руководством и с которым все равно связываться не стоит. Но попытка коммунистически настроенных заводских рабочих брататься с солдатами РОА, побуждая тем самым власовцев к дезертирству, окончилась, как и следовало ожидать, полным провалом. Обращенное к "солдатам так называемой власовской армии" воззвание, в котором говорилось о "советской родине" и "победоносной Красной армии", не вызвало никакого отклика, а в штабе дивизии к этим махинациям отнеслись с нескрываемым отвращением.
Среди командиров дивизии царило разочарование. Соглашение как будто не нарушалось, но при этом дивизии предоставлялись самые мизерные права и, хотя она была самой значительной силой на стороне восставших, ее роль сводилась к чисто вспомогательной функции. 7 мая в 9.30 утра пражское радио передало короткое сообщение о том, что ЧНС оспорил "политические соглашения" с русскими и передал "кооперацию военных действий" против немцев чешским военным властям{490}. Тогда Буняченко тоже начал изыскивать возможности обратиться непосредственно к населению Праги и объяснить, что происходит.
При вступлении в Прагу 1-я дивизия РОА проявила повышенный интерес к радиостанции. По свидетельствам очевидца, "одна из частей" даже пыталась "овладеть радиостанцией силой"{491}. Действительно, дивизии удалось передать сообщение о "продвижении Власова на Прагу" и о намерении председателя ЧНС профессора Пражака и остальных членов Совета отправиться в штаб-квартиру Власова для переговоров с ним. Начальник пражской радиостанции Майвальд был в курсе предшествовавших переговоров с "власов-скими частями", но, очевидно, в силу ухудшающегося военного положения, не стал возражать против передачи этих сообщений, чем навлек на себя гнев ЧНС. Тут же последовало решительное опровержение, и Совет спешно посадил на радиостанцию своего человека, строжайше приказав ему хранить полное молчание относительно власовской армии.
Между тем переговоры ЧНС с 1-й дивизией продолжались. В штаб-квартиру дивизии явился член ЧНС Матуш, и Буняченко высказал ему свое недовольство тоном заявления Совета и недоумение по поводу проявленной Советом осторожности{492}, подчеркнув при этом, что "русская армия" — а не "власовская" — вошла в Прагу, чтобы помочь чехам в их борьбе, и он готов в любой момент вывести свои войска из города, как только надобность в их помощи отпадет. Ему, в общем, совершенно все равно, какую форму правления выберут чехи, и у него нет ни малейшего желания ввязываться в вооруженное столкновение с Красной армией. Буняченко потребовал присутствия представителя ЧНС в своем штабе.
Тем временем положение восставших ухудшилось, и ЧНС начал снова склоняться на сторону Власова. Как вспоминает член народно-социалистической партии доктор Махотка, "большинство членов Совета горячо выступали за сотрудничество с власовской армией"{493}. Даже коммунист Кнап высказался за то, чтобы "урегулировать недоразумение" с Буняченко. С этой целью было решено послать в штаб в Йинонице официальную делегацию, доверив эту миссию коммунистам Кнапу и Давиду. Тем самым ЧНС явно отмежевался от политической линии находившегося в Кошице чешского правительства, которое считало своим долгом ориентироваться на пожелания Советского Союза. Так, в телеграмме из Кошице ЧНС призывали "быть поосторожнее с Власовым". Представитель Бенеша в Лондоне министр Рипка, тщетно пытавшийся заинтересовать Великобританию Пражским восстанием, в выступлении по Би-Би-Си призывал отказаться от какого бы то ни было сотрудничества с Власовым{494}. Разумеется, английское правительство, которое, так же как и американское, опасаясь осложнений с Советским Союзом, отказалось помочь восставшим, не могло одобрить обращения за помощью к антисоветской РОА, и министр Рипка присоединился к этой позиции.
Присланные в штаб-квартиру 1-й дивизии делегаты ЧНС Кнап и Давид старались ограничиться чисто военным аспектом соглашения, но при переговорах всплыли политические вопросы, о которых они доложили собранию ЧНС{495}. Их сообщение дает дополнительную информацию о том, какое огромное значение придавал Буняченко разъяснению чехам истории РОА, ее целей и побудительных мотивов участия в Пражском восстании. Он попросил эмиссаров ЧНС передать по радио по-русски и по-чешски подготовленное им заявление на четырех страницах. Касаясь военного положения в Праге, он приводил сведения об оснащенности своих частей оружием и боеприпасами, о потерях дивизии, говорил о необходимости сосредоточения сил и средств в направлении главного удара. В целях улучшения военного сотрудничества между чехами и русскими и координации атак он настаивал на необходимости прикомандировать к нему чешских офицеров связи, в частности, послать одного офицера на холм Петршин, куда была переброшена часть артиллерийских орудий из Злихова{496}. На этом переговоры между ЧНС и 1-й дивизией РОА закончились. Вечером 7 мая, в 21.00, когда Кнап и Давид рассказывали Совету о встрече с Буняченко и излагали его пожелания и требования, части РОА в основном уже завершили военные действия в Праге и начали двигаться в западном направлении.
Как проходили бои РОА в Праге в тот роковой день 7 мая? Боевой приказ командира дивизии, составленный согласно представлению группы "Бартош" и отданный в 1.00 ночи, предусматривал наступление на центр города по трем направлениям{497}. Главный удар должен был нанести в 5.00 утра полк подполковника Архипова из района Смихова. Полку, располагавшему несколькими танками, артиллерийскими орудиями и противотанковыми пушками и имевшему при себе опытных проводников, удалось пересечь мосты через Влтаву и с боями продвинуться через Виногради до Страшнице, а оттуда на юг до Панкрац{498}. Наступавший с севера 4-й полк под командованием полковника Сахарова захватил важные объекты в самом городе, в том числе холм Петршин. 3-й полк — под командованием подполковника Алексавдрова-Рыбцова — прошел через Бржевнов — Стршешовице и Градчани и, координируя свои действия с 4-м полком, сумел прорваться к западному рукаву Влтавы{499}. И наконец, артиллерийский полк подполковника Жуковского, занявший утром огневые позиции между Коширже и Злиховым, но в течение дня перенесший их частично вперед, по договоренности с группой "Бартош" обстрелял немецкие опорные пункты в районе госпиталя, обсерватории, холма Петршин и в других местах. Бои в центре города против вошедших с юга частей дивизии СС "Валленштейн" велись остальными силами 1-й дивизии. 2-й полк под командованием подполковника Артемьева, отделенный командиром дивизии б мая в районе Хухле — Сливенец, после ожесточенного боя под Лаговички-у-Праги потеснил противника до Збраслава{500}, а разведотряд под командованием майора Костенко занял посты на восточном берегу Влтавы в районе Браника, развернувшись на юг.
Несомненно, все события тех дней — неожиданный поворот 5 мая 1-й дивизии из района Бероун — Сухомасти в пражском направлении, начало военных действий 6 мая на аэродроме Рузине и к юго-западу от Хухле и, наконец, наступление 7 мая на центр Праги по трем основным направлениям, а также неоднократные требования о капитуляции, выдвигавшиеся представителями РОА, в том числе полковником Сахаровым{501}, — были для немецкого командования большой неожиданностью, и немцы никак не могли понять, что происходит. Ведь всего полгода назад, 14 ноября 1944 года, в Рудольфовой галерее в Пражском Бурге торжественный государственный акт провозгласил создание КОНР. Государственный министр Богемии и Моравии Франк принимал Власова в своем дворце согласно протоколу, произносил вступительную речь в Рудольфовой галерее и вместе с представителем вермахта генералом Туссеном сидел как почетный гость в первом ряду, рядом с Власовым. А теперь вдруг РОА в мгновение ока оказалась во вражеском лагере! Генерал Туссен, государственный министр франк и группенфюрер СС, генерал-лейтенант Ваффен-СС граф Пюклер, так же как генерал Зейде-ман и полковник Зорге, сочли внезапную враждебность вчерашних союзников "недоразумением, порожденным неудачным стечением обстоятельств". Исходя из этой ложной посылки, немцы предприняли несколько попыток договориться с войсками Власова о перемирии как на аэродроме в Рузине, так и в самой Праге{502}. 7 мая в 10 часов в передовых частях 1-го полка в окрестностях Виногради появился немецкий парламентер с требованием генерала Туссена прекратить военные действия — что в тот момент было совершенно нереально.
Подполковник Архипов не только не собирался выполнять это требование, но, напротив, сам настаивал на капитуляции немцев. В полдень немецкий лейтенант вторично пересек линию фронта с письмом от генерала Туссена, в котором тот чуть ли не умолял о перемирии. Он писал:
В этот трудный час, когда вы, власовцы, и мы, немцы, должны объединиться в борьбе против нашего общего врага — большевизма, вы подняли против нас оружие. Считая это недоразумением, я прошу вас прекратить боевые действия против нас. Утром 8 мая Прага будет очищена от чешских повстанцев. Генерал Туссен{503}.
Но и этот призыв, который подполковник Архипов " незамедлительно" передал командиру дивизии, не произвел никакого впечатления.
Однако что касается непосредственных участников боев — немецких солдат, то часть их была готова капитулировать перед русскими. 7 мая в 8 утра пражское радио сообщило, что немецкие части "массами" сдаются власовцам; по словам очевидца, "вся улица... представляла собой военный лагерь власовских частей"{504}. 1-му полку удалось принудить к капитуляции сильную немецкую часть в районе Лобковицовской площади и взять в плен 500 человек — этот крупный успех разом изменил положение во всем городе{505}. К вечеру 7 мая РОА овладела основными районами города, за исключением центров немецкого сопротивления в Градчани, у стадиона Страгов и в Дейвице. Кроме того, 1-я дивизия рассекла Прагу на две части, помешав тем самым соединению немецких запасных частей, продвигавшихся с севера и юга{506}. Судя по русским сообщениям, к вечеру 7 мая было взято в плен от четырех до десяти тысяч человек, однако эта цифра представляется завышенной{507}. Во многих местах солдатам РОА приходилось преодолевать ожесточенное сопротивление противника, драться буквально за каждый дом. Чехи, очевидцы событий, оставили немало свидетельств о героизме власовцев. Доктор Махотка, например, писал: Власовцы сражались мужественно и самоотверженно, многие не скрываясь выходили прямо на середину улицы и стреляли в окна и люки на крышах, из которых вели огонь немцы... Власовцы сражались с чисто восточным презрением к смерти... Казалось, они сознательно шли на смерть, только бы не попасть в руки к Красной армии{508}.
Не удивительно, что повстанцы отнеслись к русским как к освободителям и с благодарностью приветствовали участие РОА в восстании. Отношение чешского населения к солдатам РОА везде описывается как "очень хорошее, братское": "Население встречало их с восторгом".
Однако политические цели участия РОА в восстании были сведены на нет еще до начала операции. 6 мая главнокомандующий союзными войсками генерал Эйзенхауэр, идя навстречу просьбе начальника генерального штаба Красной армии генерала армии А. И. Антонова от 5 мая, отклонил предложение командующего американской 3-й армией (12-я группа армий) генерала Паттона о наступлении восточнее линии Карлсбад — Пльзень — Будвайс и взятии Праги{509}. Таким образом, к огорчению чешских националистов, расчеты на взятие Праги американскими войсками не оправдались, и это не могло не сказаться на настроении тех, кто сражался в Праге. Надежды власовцев и чешских националистов на то, что в столице возьмут верх "некоммунистические и антикоммунистические силы", рушились. Но население Праги восторженно встречало власовцев, сотрудничество с группой "Бартош" протекало без осложнений, и казалось, что все противоречия с ЧНС остались позади.
Однако 7 мая появились и начали множиться дурные предзнаменования. Утром 7 мая ЧНС отмежевался по радио от "действий генерала Власова против немецких войск". Сразу после этого подполковник Архипов отправился в бронеавтомобиле в "Бартош" и потребовал объяснений у начальника штаба подполковника Бюргера. Заверив офицера РОА в лояльности чешских военных. Бюргер, однако, объяснил, что военное командование не может действовать вопреки Национальному совету{510}. Тем не менее он согласился обнародовать составленное Архиповым заявление: "Героическая армия генерала Власова, поспешившая на помощь чешским братьям, продолжает очищать город от немцев".
В это же время, утром 7 мая, в Праге, на участке подполковника Шкленаржа, приступила к работе советская миссия, заброшенная на парашютах. Командир 1-го полка, пославший взвод для охраны радиостанции, по просьбе чехов выделил еще один взвод для охраны этой миссии. Начальник миссии капитан Соколов позвонил Архипову, и между ними состоялся следующий разговор{511} :/186]
Архипов: У телефона командир 1-го полка 1-й дивизии РОА.
Соколов: Здравствуйте, товарищ полковник. Я капитан Соколов.
Архипов: Здравствуйте, капитан.
Соколов: Товарищ полковник, вы убеждены, что Прага будет очищена от частей СС?
Архипов: Да.
Соколов: Каков состав вашего полка и насколько он оснащен? (Архипов привел удвоенное количество, чтоб звучало убедительней).
Соколов: Да, с таким полком можно воевать. Скажите, товарищ полковник, могу я сообщить в Москву, что полк идет в бой за товарища Сталина и за Россию?
Архипов: За Россию — да. Не за товарища Сталина.
Соколов: Но ведь вы присягали товарищу Сталину и, наверное, вы закончили Военную академию в Советском Союзе.
Архипов: Я закончил военное училище в Москве в 1914 году. Сталину я никогда не присягал. Я являюсь офицером РОА и я присягал генералу А.А. Власову.
Соколов: Теперь мне все ясно.
О похожем эпизоде рассказывает также майор Костенко из разведотряда. Советский агент передал командиру 1-й дивизии РОА пожелание Сталина, чтобы Буняченко "со всей своей дивизией вернулся в объятья родины". Майор Швеннингер присутствовал при том, как Буняченко "передал Сталину ответное приглашение, не поддающееся переводу на немецкий"{512}. В довершение всего вечером 7 мая на участке полковника Сахарова появились американские бронированные машины с журналистами, которые в своей святой простоте считали солдат РОА "союзниками Красной армии", а узнав, в чем дело, не нашли ничего лучше, как заявить, что бои русских в Праге помогут им "искупить вину перед советским правительством за сотрудничество с немцами". Эта первая встреча с американцами и их поразительная политическая наивность произвели на офицеров РОА удручающее впечатление{513}.
Вечером 7 мая в дивизионном штабе никто уже не сомневался в том, что Прагу займут советские, а не американские войска. В 23 часа Буняченко с тяжелым сердцем отдал приказ о прекращении боевых действий и отходе из города. По словам Швеннингера, при прощании с чешскими офицерами, пришедшими в штаб сообщить о положении дел, в глазах генерала стояли слезы, а на лицах всех присутствовавших застыло выражение "глубокой безнадежности". Поздним вечером были сняты укрепления на западном берегу Влтавы, между Прагой и Збраславом, и к рассвету части РОА оставили город. Правда, 2-й полк утром 8 мая еще вел перестрелку в районе Сливенеца к юго-западу от Праги с частями Ваффен-СС. Но в тот же день в 12 часов поступило сообщение об отходе 1-й дивизии РОА в полном составе по шоссе Прага — Бероун{514}. Русские и немецкие войска, которые только что воевали друг против друга, теперь вместе двигались к американским позициям западнее Пльзеня.
{436}В. Артемьев. История Первой Русской Дивизии, стр. 19, архив автора. Б. Плющев-Власенко. Крылья свободы, стр. 109, архив автора. Письмо Швеннингера Стеенбергу, 18.5.1966, ВА-МА, архив Стеенберга. С. Штеменко. В Генеральном штабе, т. 2, стр. 440.
{437}В. Поздняков. Андрей Андреевич Власов, стр. 367.
{438}Litopis Ukrainskoi Povstanskoi Annii. Bd. 8.Toronto, 1980, S. 203, 217, 240, 251.Пограничные войска в годы Великой Отечественной войны 1941-1945.Сборник документов. Москва, 1968, стр. 678.
{439}Бухардт. Манускрипт 1946 (на нем. яз.), стр. 15, ВА-МА, архив Стеенберга; он же, 27.2.1966, стр. 4, там же. Письмо Крёгера Стеенбергу, 6.5.1967, там же.
{440}В. Поздняков. Генерал-майор Федор Иванович Трухин, ВА-МА, архив Позднякова 149/2.Письмо Крёгера Стеенбергу, без даты, ВА-МА, архив Стеенберга. Б. Плющев-Власенко, указ. соч., стр. 111.
{441}Detlef Brandes. Die Tschechen unter deutschem Protektorat. Bd. 2.Munchen, Wien 1975, S. 96, 105.
{442}Ф. Богатырчук. К вопросу оценки антинемецкого выступления РОА в Праге в мае 1945 года. ВА-МА, архив Стеенберга. См. также "Прага", ВА-МА, архив Позднякова 149/8.
{443}С. Ауски. Предательство и измена. Войска генерала Власова в Чехии. Сан-Франциско, 1982, стр. 121.
{444}В. Артемьев, указ. соч., стр. 37.Освободительное Движение Народов России, стр. 28, ВА-МА, архив Позднякова 149/26.
{445}Письмо Архипова Позднякову, 19.2.1960, ВА-МА, архив Позднякова 149/29.В. Поздняков. Андрей Андреевич Власов, стр. 370.
{446}Письмо Крёгера Стеенбергу, без даты, ВА-МА, архив Стеенберга.
{447}С. Ауски, указ. соч., стр. 130-131.
{448}Karel BartoSek. Prafeke povstani. Prag, I960, S. 205.
{449}Forrest С. Pogue. The Supreme Command. Washington, 1954, p. 503.John Ehnnann. Grand Strategy. Bd. 6: October 1944 - August 1945, p. 159.Lnd, 1956 (History of the Second World War. United Kingdom Military Series). Charles B. Mac-Donald. The Last Offensive. Washington, 1973, p. 467.
{450}С. Ауски, указ. соч., стр. 138.
{451}Письмо Крёгера Стеенбергу, 7.12.1966, ВА-МА, архив Стеенберга.
{452}Г. Жуков. Воспоминания и размышления. Москва, АПН, 1971, стр. 690.
{453}В. Артемьев, указ. соч., стр. 33.А. Архипов. Воспоминания, стр. 19, архив автора.
{454}В. Поздняков. Последние дни. "Голос народа", 1951, № 25.Он же. Письмо в редакцию, ВА-МА, архив Позднякова 149/8.Он же. Андрей Андреевич Власов, стр. 370.
{455}Г. Швеннингер. Отчет..., стр. 21, ИСИ.
{456}В. Артемьев, указ. соч., стр. 39.Письмо Крёгера Стеенбергу, 7.12.1966, ВА-МА, архив Стеенберга.
{457}Поручик Г. Под Прагой. "Голос народа", № 17(67), 27.4.1952.
{458}Г. Швеннингер. Отчет..., стр. 20.Он же. Дополнения, стр. 14, ИСИ. См. также: Ivan Stovicek. Zapis о zasedani CNR ve dnech 4.ai 9.kvetna 1945.In: Historie a vojenstvi 1967, N 6, S. 996.
{459}Г. Швеннингер. Отчет..., стр. 20.Он же. Дополнения, стр. 15.Письмо Швеннингера Стеенбергу, 18.5.1966, ВА-МА, архив Стеенберга.
{460}К. Бартошек, указ. соч., стр. 166.
{461}Там же, стр. 164.
{462}Ф. Титов. Клятвопреступники. В: Неотвратимое возмездие..., Москва, 1973, стр. 228.С. Штеменко, указ. соч., стр. 439.
{463}В. Артемьев, указ. соч., стр. 29.Письмо Клейста Долердту, 3.7.1954, ВА-МА, архив Стеенберга.
{464}Письмо Швеннингера Стеенбергу, 18.5.1966, ВА-МА, архив Стеенберга.
{465}Швеннингер. Отчет..., стр. 17.Письмо Крёгера Стеенбергу, 7.12.1966, ВА-МА, архив Стеенберга.
{466}Поручик А. Высоцкий. Мои воспоминания о А. А. Власове, 23.6.1948, ВА-МА, архив Позднякова 149/48.Письмо Крёгера Стеенбергу, без даты, ВА-МА, архив Стеенберга.
{467}Г. Швеннингер. Отчет..., стр. 20.Он же. Дополнения, стр. 14.Письмо Швеннингера Стеенбергу, 18.5.1966, ВА-МА, архив Стеенберга.
{468}Horst Naude. Eriebnisse und Erkentnisse. Als politischer Beamier im Protektorat Bohmen und Mahren. Munchen, 1975, S. 180.
{469}А. Архипов, указ. соч., стр. 21.
{470}В. Поздняков. Первая Пехотная Дивизия, лист 20, ВА-МА, архив Позднякова 149/49.В. Артемьев, указ. соч., стр. 41.
{471}С. Ауски, указ. соч., стр. 172.
{472}Донесение Хогебак, ВА-МА RL 10/564.К. Бартошек, указ. соч., стр. 166.
{473}Донесение Хогебак, ВА-МА RL 10/564.Письмо Кольхунда Доллердту, 10.8.1954, ВА-МА, архив Стеенберга.
{474}Как утверждает В. Поздняков в письме автору от 2.9.1972, обвинение против подполковника Артемьева, выдвигаемое в этой связи, совершенно безосновательно.
{475}С. Ауски, указ. соч., стр. 177.
{476}А. Архипов, указ. соч., стр. 21.Письмо Георгиева Стеенбергу, 14.11.1968, архив Стеенберга.
{477}См. также: Ceskoslovensky voensky atlas. Prag, 1965, S. 357.
{478}К. Бартошек, указ. соч., стр. 164.
{479}Там же, стр. 164.М. Степанек-Штемр. Русские в Праге (на чеш. яз.), архив автора. Д. Брандес, указ. соч., стр. 137.
{480}К. Бартошек, указ. соч., стр. 167.
{481}М. Степанек-Штемр, указ. соч., архив автора. Людвик Свобода. От Бузулука до Праги. Москва, 1969, стр. 401.
{482}С. Ауски, указ. соч., стр. 239.
{483}И. Штовичек, указ. соч., стр. 995.
{484}О. Machotka. Pra&k6 povstani 1945.Washington, 1965, S. 39.Письмо Махотки Стеенбергу, 2.3.1969, ВА-МА, архив Стеенберга.
{485}См. также: К. Бартошек, указ. соч., стр. 171.
{486}Письмо Махотки Стеенбергу, 2.3.1969, ВА-МА, архив Стеенберга.
{487}И. Штовичек, указ. соч., стр. 995.
{488}Там же, стр. 996.См. также: К. Бартошек, указ. соч., стр. 172.
{489}Д. Брандес, указ. соч., стр. 137.
{490}К. Бартошек, указ. соч., стр. 166.
{491}И. Штовичек, указ. соч., стр. 1004.
{492}Письма Махотки Стеенбергу, 2.3.1969, 14.3.1969, ВА-МА, архив Стеенберга.
{493}Д. Брандес, указ. соч., стр. 72, 113, 139.Ф. Пог, указ. соч., стр. 505.
{494}И. Штовичек, указ. соч., стр. 1009.
{495}С. Ауски, указ. соч., стр. 198.
{496}А. Архипов, указ. соч., стр. 22.
{497}В. Поздняков. Первая Пехотная Дивизия, лист 21...
{498}К. Бартошек, указ. соч., стр. 154.
{499}Письмо Георгиева Стеенбергу, 2.1.1969, ВА-МА, архив Стеенберга.
{500}С. Ауски, указ. соч., стр. 189.
{501}К. Бартошек, указ. соч., стр. 166.Донесение Хогебак, ВА-МА RL 10/564.
{502}А. Архипов, указ. соч., стр. 24.
{503}Д. Брандес, указ. соч., стр. 137.
{504}К. Бартошек, указ. соч., стр. 166.О. Махотка, указ. соч., стр. 45.
{505}С. Ауски, указ. соч., стр. 186.
{506}А. Архипов, указ. соч., стр. 23.В. Поздняков. Первая Пехотная..., лист 22.
{507}О. Махотка, указ. соч., стр. 40.М. Степанек-Штемр, указ. соч. Письмо Георгиева Стеенбергу, 14.11.1968, ВА-МА, архив Стеенберга.
{508}John Ehnnann, ibid, p. 159.Charles B. MacDonald, ibid. pp. 458, 467, 477.Die Befreiungsmission der Sowjetstreilkrafte im Zweiten Weltkrieg. Berlin (Ost), 1973, S. 384.
{509}В. Артемьев, указ. соч., стр. 45.
{510}А. Архипов, указ. соч., стр. 23.
{511}Г. Швеннингер. Отчет..., стр. 22.
{512}А. Архипов, указ. соч., стр. 25.См. также: В. Артемьев, указ. соч., стр. 45.
{513}К. Бартошек, указ. соч., стр. 199.
Знаком * обозначены цитаты, данные в обратном переводе с немецкого.
Автор: Эта книга, в которой показаны зарождение Освободительного движения и история Освободительной армии и уделено некоторое внимание политическим основам и деятельности КОНР, написана с принципиально новых позиций. В отличие от общепринятой интерпретации, когда власовская армия рассматривается как акция немецких кругов (руководство рейха, СС и вермахт), предпринятая для предотвращения грозившего рейху поражения, в настоящей работе Освободительная армия и Освободительное движение рассматриваются сами по себе и независимо. Автор особенно стремился выделить позитивные моменты в отношениях между немцами и русскими. Национальное русское движение, которому Власов дал свое имя, рассматривается в книге в контексте советской истории, оставаясь при этом частью истории второй мировой войны.
Предисловие
Глава 1. Основы РОА
Глава 2. Высшее командование и офицерский корпус РОА. Обособление РОА
Глава 3. Сухопутные войска РОА
Глава 4. Военно-воздушные силы РОА
Глава 5. Военнопленные становятся солдатами РОА
Глава 6. РОА на Одерском фронте
Глава 7. Поход в Богемию
Глава 8. РОА и Пражское восстание
Глава 9. Значение Пражской операции
Глава 10. Конец Южной группы РОА
Глава 11. Конец Северной группы РОА
Глава 12. Выдача
Глава 13. Советская реакция на Власова
Глава 14. Борьба с феноменом Власова
Глава 15. Историческое место освободительного движения
Послесловие
Документы
Примечания
Предисловие
Научный центр военной истории ФРГ еще в 60-е годы обратился к проблеме добровольческих соединений, набранных из представителей различных народов СССР и служивших в германском вермахте. В 1967 году мой тогдашний начальник, полковник в отставке доктор фон Гроте поручил мне подготовить подробный обзор всех аспектов этой темы. До сих пор в центре моих научных интересов были народности Кавказа, и поэтому я решил сначала заняться добровольческими формированиями, составленными из представителей национальных меньшинств СССР.
В 1974 году я опубликовал работу „Немцы и калмыки“, в 1976 вышел первый том истории Восточных легионов. Обе публикации выдержали несколько изданий, что доказывало актуальность избранной мною тематики. Однако по разным причинам мне пришлось прервать занятия Восточными легионами, и центр моих научных интересов сместился. Я вплотную занялся историей Русской освободительной армии и в конце 1982 года представил рукопись начальнику Центра военной истории полковнику доктору Хаклю. Лишь после этого я вернулся к прерванным исследованиям.
На протяжении всего этого периода меня не раз спрашивали, как согласуется изучение добровольческих объединений, обсуждение феномена службы бывших советских солдат в рядах и на стороне „немецко-фашистских сил“ с принципами так называемой политики разрядки. Я каждый раз отвечал, что историк не может исходить в своей работе из соображений политической конъюнктуры и что вряд ли политика разрядки оправдывает умолчание исторической правды и прекращение полемики. Надеюсь, читатель найдет, что мой текст выдержан от начала до конца в духе взаимопонимания между немецким и русским народами. Во всяком случае, с советской точки зрения, эта тема, несомненно, чрезвычайно актуальна, хотя и - по точному замечанию обнаруживает „ахиллесову пяту“ Советской армии, иначе говоря, ее „морально-политическую“ слабость во время второй мировой войны. Но вряд ли у историка есть основания утаивать неприятные кому-то факты.
Интерес к власовскому движению (и его ядру - „власовской армии“) не иссяк со временем. В последние годы появилось немало интересных публикаций; другие еще ждут своего часа. В работе над настоящей книгой я пользовался в основном немецкими документами, а также документами и материалами Русского освободительного движения. Среди них следует в первую очередь упомянуть обширное собрание полковника РОА Позднякова, переданное при моем посредничестве из США в военный архив ФРГ. В работе использованы также советские трофейные материалы и публикации по данной теме.
Эта книга, в которой показаны зарождение Освободительного движения и история Освободительной армии и уделено некоторое внимание политическим основам и деятельности КОНР, написана с принципиально новых позиций. В отличие от общепринятой интерпретации, когда власовская армия рассматривается как акция немецких кругов (руководство рейха, СС и вермахт), предпринятая для предотвращения грозившего рейху поражения, в настоящей работе Освободительная армия и Освободительное движение рассматриваются сами по себе и независимо. Автор особенно стремился выделить позитивные моменты в отношениях между немцами и русскими. Национальное русское движение, которому Власов дал свое имя, рассматривается в книге в контексте советской истории, оставаясь при этом частью истории второй мировой войны.
Основы РОА
Нападение Германии и ее союзников 22 июня 1941 года было для Советского Союза тяжелым потрясением не только в военном, но и в политическом плане. Война разом обнажила все скрытые до сих пор внутренние противоречия советского государства. В условиях беспощадной слежки и террора эти противоречия, разумеется, не могли принять форму открытой оппозиции. Но в оккупированных районах с прекращением деятельности аппарата НКВД разом обнаруживалась хрупкость идеологических основ советской власти. Всем своим поведением советские люди демонстрировали, что высокопарные лозунги большевистской доктрины о неразрывном единстве советского общества, нерушимой верности коммунистической партии и самоотверженном „советском патриотизме“ не выдержали первого же испытания на прочность. В районах, оказавшихся под угрозой вторжения немцев, жители всячески сопротивлялись приказам партийных и советских органов об эвакуации и уничтожении государственного имущества . Подавляющее большинство населения встречало вражеские войска с явным доброжелательством или, по крайней мере, с выжидательным любопытством и без всякой ненависти - что полностью противоречило догме. Еще очевиднее проявилось это отступление от правил в поведении красноармейцев. Им издавна втолковывали, что в бою они могут лишь победить или погибнуть, третьего не дано (Советский Союз был единственной страной, где сдача в плен приравнивалась к дезертирству и предательству, а солдат, попавший в плен, преследовался по закону ). Но, несмотря на всю эту политическую муштровку и угрозы, к концу 1941 года в немецком плену оказалось не менее 3,8 миллиона красноармейцев, офицеров, политработников и генералов - а всего за годы войны эта цифра достигла 5,24 миллиона. Население, встречавшее захватчиков дружески и открыто, без ненависти или враждебности, миллионы красноармейцев, предпочитавших плен смерти „за Родину, за Сталина“, - все это представляло собой значительные ресурсы для политической войны против советского режима.
Йоахим Хоффманн
ИСТОРИЯ ВЛАСОВСКОЙ АРМИИ
Глава 13.
Советская реакция на Власова.
После войны советское правительство приложило поистине гагантские усилия, чтобы заполучить последние разрозненные остатки РОА. По настойчивости и последовательности этих усилий можно судить, что означал для СССР сам факт существования этой армии. Здесь необходимо вновь обратиться ко времени зарождения Освободительной армии, поскольку в поисках объяснения непреклонной позиции СССР в этом вопросе следует понять, что высокое самосознание Советской армии в начале германо-советской войны было поколеблено самим фактом существования РОА. В юбилейной работе по поводу пятидесятилетия советских вооруженных сил говорится: "Личный состав Красной армии и военно-морского флота закален в морально-политическом отношении и безгранично предан своей социалистической родине" {687}. В Советском Союзе всегда бытовала-и бытует до сих пор - догма о морально-политическом единстве советского общества, о неразрывной дружбе народов СССР и о самоотверженном патриотизме "советского народа", сплоченного вокруг коммунистической партии, которой он безгранично предан. Этот миф был подорван в самом начале германо-советской войны, когда, вопреки всем мерам политического воздействия и ухищрениям пропаганды, в первые же месяцы немецким войскам и их союзникам сдалось 3,8 миллиона советских воинов всех званий, в том числе и политработники (а всего за период войны в плену оказалось 5,24 миллиона человек). Правда, вследствие политики немцев в оккупированных районах и остановки наступления и с помощью усиления мер по запугиванию и пропагандистских мероприятий, это фиаско удалось несколько смягчить.
С осени 1941 года до советского руководства стали доходить известия о том, что бывшие красноармейцы в немецком плену создают военную организацию для борьбы против сталинского режима. Разумеется, эти сообщения вызывали определенный интерес, но непосредственной опасности они не предвещали: вербовка в немецкую армию производилась децентрализованно, под жестким контролем и относительно медленно. Однако уже в 1942 году на передовых участках фронта и в тылу группы армий "А", продвигавшейся на Кавказ, появились 25 полевых батальонов Восточных легионов, состоявших из представителей национальных меньшинств СССР. К этому же времени относится первая попытка образования национальных русских вооруженных сил под собственным командованием - "экспериментальных армий", по определению историка Басса{688}. В 1942 году в тылах немецкой армии на востоке действовали следующие армии такого типа:
1. Русская народная национальная армия (РННА), сформированная в Осиновке под командованием полковника К. Г. Кромиади (Санина), численностью в 10 тысяч человек, в русской форме и с национальными знаками различия, состоявшая из шести пехотных батальонов, саперного батальона и артиллерийского дивизиона. Политическим руководителем армии был С. Н. Иванов. В августе 1942 года Кромиади и Иванова сменили на этих постах полковник В. И. Боярский и генерал Г. Н. Жиленков {689}.
2. 120-й полк донских казаков (с конца 1942 года - 600-й полк донских казаков), численностью около 3 тысяч человек, под командованием подполковника И. Н. Кононова, сформированный в Могилеве {690}.
3. Восточный запасный полк " Центр", сформированный в Бобруйске и состоявший из пехотных батальонов "Березина", "Десна", "Днепр", "Припять", "Волга" и нескольких артиллерийских батарей. Командир - подполковник Н. Г. Яненко{691}.
4. Русская освободительная народная армия (РОНА), сформированная в самоуправляющемся районе Локоть, численностью в 20 тысяч человек, состоявшая из пяти пехотных полков, саперного батальона, танкового батальона, зенитного дивизиона. Командир - бригадный генерал Б. Каминский{692}.
5. Бригада " Дружина" под командованием подполковника В. В. Гиль-Родионова{693} представляла собой особый случай. Она была сформирована в 1943 году под эгидой СД, но обладала полной самостоятельностью. Численность ее достигала 8 тысяч человек, она состояла из нескольких полков и специальных частей. Впоследствии из бригады выделился "гвардейский батальон РОА" (в Пскове), первое формирование, находившееся в непосредственном контакте с кругом Власова (командир - Иванов, заместитель - полковник И. К. Сахаров, начальник штаба - полковник Кромиади) {694}.
Все эти формирования, каждое по-своему, принимали участие в борьбе против советских партизан в тылу немецкой армии. И все они, несомненно, обладали большой притягательной силой для населения оккупированных районов и в какой-то мере - для советских войск. РННА, например, самым крупным своим достижением считала моральную победу над окруженным ею у Дорогобужа 1-м гвардейским кавалерийским корпусом под командованием генерал-майора П. А. Белова: разведотдел корпуса под командованием Героя Советского Союза старшего лейтенанта Князева целиком перешел на сторону РННА и влился в ее ряды{695}. Однако "экспериментальные армии" существовали каждая сама по себе, никакого центрального органа руководства не было, и советская пропаганда справлялась с ними местными средствами{696}. Лишь в начале 1943 года, когда разнеслось известие о создании Русского комитета - политического центра на немецкой стороне, стала очевидна недостаточность этих средств.
Советское руководство наверняка было крайне обеспокоено тем, что во главе русского движения на стороне противника встал заместитель командующего Волховским фронтом, командующий 2-й ударной армией генерал-лейтенант А. А. Власов, известный широким кругам населения со времен боев под Москвой. В сентябре 1942-го над частями Красной армии сбрасывалось его первое воззвание к "товарищам командирам" и советской интеллигенциип. В январе 1943 года последовало " Обращение Русского комитета к бойцам и командирам Красной армии, ко всему русскому народу и другим народам Советского Союза", политическая программа из 13 пунктов, подписанная председателем Комитета А. А. Власовым и секретарем генерал-майором В. Ф. Малышкиным {697}. В марте 1943 года появилось открытое письмо генерал-лейтенанта Власова под названием " Почему я стал на путь борьбы с большевизмом" {698}. В апреле 1943 года "антибольшевистская конференция бывших командиров и бойцов Красной армии" публично признала генерала Власова вождем Русского освободительного движения {699}. В президиум конференции входили генерал-майор Малышкин, Жиленков, майор Федоров, подполковник Поздняков, майор Пшеничный, лейтенант Крылов, рядовой Коломацкий и другие. За всеми этими явлениями должно было скрываться что-то более существенное и конкретное, чем просто пропагандистские мероприятия. Это подтверждалось также появлением Власова в тылу групп армий "Центр" и "Север" в марте - мае 1943 г. {700}. Его выступления перед так называемыми Восточными войсками и гражданским населением оккупированных районов, апелляция к русскому национальному чувству имели, как единодушно отмечали русские наблюдатели, "огромный успех". Особый отклик и "горячую овацию" вызвали его слова в Сольцах 5 мая 1943 года о том, что Германия не может выиграть войну без России и что русских нельзя купить {701}: "Мы не хотим коммунизма, - сказал он, - но мы также не хотим быть немецкой колонией", России уготовано "почетное место... в новой Европе" *.
В это же время была проведена операция, которая получила название "серебряная полоса" и была оплачена немцами. Над фронтом в больших количествах сбрасывался "Общий приказ № 13 Верховного главнокомандования германской армии", призывавший военнослужащих Красной армии переходить на немецкую сторону. Перебежчикам предоставлялся срок, в течение которого они могли решить, будут ли они заниматься каким-нибудь мирным делом в "освобожденных районах" или вступят в "Русскую освободительную армию". Этот приказ в сочетании с появившимися затем листовками " Командования Русской освободительной армии"{702}, а также введение во всех немецких дивизиях восточного фронта "русских организационных рот" РОА как будто свидетельствовали о существовании национальной армии.
В действительности дело обстояло несколько иначе. " Русский комитет" был чистейшей пропагандистской фикцией, а Русская освободительная армия в 1943 году представляла собой не что иное, как сборное обозначение всех в какой-либо форме организованных на немецкой стороне солдат русской национальности, куда входили и члены боевых и охранных формирований, и хиви, теперь называемые добровольцами, находившиеся в немецких формированиях {703}. Положение дел в то время довольно точно определил генерал-майор Малышкин. В своей речи в Париже 24 июля 1943 года во время "Русских дней" он выразил сожаление по поводу того, что РОА пока не существует, добавив, однако, что ускоренная организация настоящей русской освободительной армии - дело безотлагательное {704}.
С этими словами перекликается выступление полковника Боярского перед добровольцами 16 июня 1943 г. Он сказал, что в настоящий момент у русских нет освободительной армии, потому что нет правительства, которому они могли бы подчиниться. Такое Правительство, по его мнению, могло бы быть создано уже через два-три месяца {705}.
Итак, самой РОА еще не существовало, но связанная с именем Власова пропаганда имела, как утверждает фельдмаршал Г. фон Клюге в письме начальнику генштаба ОКХ, "сильнейшее влияние по обе стороны фронта", хотя поток перебежчиков возрос не так сильно, как ожидалось - вероятно, из-за принятых советским руководством контрмер. Тот же эффект отмечался в донесениях из других групп армий: например, командующий 18-й армией генерал-полковник Г. Линдеман писал, что только благодаря выступлениям генерала Власова в занятом им районе больше нет партизан и прекратились случаи саботажа {706}. На советской стороне, естественно, возникло опасение, что немцы взяли новый курс и перешли, наконец, к ведению политической войны. После того, как в восточный район действий немецких войск проникли сообщения о Власове, Стали сбрасываться его листовки и воззвания, советской стороне Пришлось отказаться от своего первоначального метода - замалчивания этого неприятного явления.
В советской мемуарной литературе послевоенных лет можно легко обнаружить Отголоски тогдашнего восприятия феномена Власова. Генерал-лейтенант Н. К. Попель, бывший член военного совета 1-й гвардейской танковой армии, пишет о том, что листовки Власова были опаснее немецких {707}. Ему вторит маршал Советского Союза С. А. Чуйков, говоря, что один власовский агент был опаснее целой танковой роты противника {708}. Вообще, судя по испуганно-суровому тону всех сообщений о власовцах, моральное состояние советских солдат даже после победы под Сталинградом оставалась крайне неустойчивым. Так, даже тот, кто просто подбирал или хранил листовки Власова, подлежал суровому наказанию {709}. В январе 1943 года военный трибунал приговорил к расстрелу нескольких красноармейцев 48-й гвардейской стрелковой дивизии за распространение таких листовок. Но, несмотря на запрещение всякого упоминания РОА, сведения о ее существовании распространялись в частях Красной армии и производили сильное впечатление. Как рассказал 22 июля 1943 года взятый в плен генерал-лейтенант Л. А. Масанов, командный состав Красной армии располагал точной информацией о содержании листовок, подписанных Власовым, и о существовании РОА, хотя командиры и не обсуждали эту тему, "опасаясь доносов и последующих репрессий"*. По словам генерала Масанова, власовская программа обладала чертами, крайне притягательными для каждого русского, и отвечала пожеланиям русского народа, так что при дальнейшем распространении она неизбежно имела бы самый широкий отклик {710}. В феврале-марте 1943 года воззвания Власова, несомненно, содействовали падению боевого духа среди войск Воронежского и Юго-Восточного фронтов, окруженных у Харькова и Лозовой. По сообщению одного офицера, многие его товарищи тайком носили с собой власовские листовки {711}. Весной 1943 г. главной темой разговоров среди взятых в плен советских офицеров были генерал Власов, Русский комитет и РОА. В лагере военнопленных под Владимиром-Волынским 570 офицеров всех званий по собственному почину подписали просьбу о приеме во власовскую армию и обратились к генералу с открытым письмом.
В это же время советское руководство, строжайшим образом пресекавшее всякое проявление интереса к власовскому вопросу, поняло, что необходимо предоставить частям Красной армии, подверженным массированному воздействию этой пропаганды, какое-то объяснение, официальную версию событий. Это была трудная задача, так как следовало тщательно избегать всего, что могло бы невольно способствовать популяризации Власова и его дела. Поначалу эту тему осмеливались затрагивать лишь фронтовые и партизанские газеты, предназначенные для узкого круга, а центральные советские печатные органы хранили мертвое молчание. Одновременно были усилены меры по слежке и контролю, и на фронте с весны 1943 года развернулась мощная пропагандистская кампания. Даже на Свирском фронте командование финской армии зафиксировало советские агитационные мероприятия против Власова и РОА {712}.
5 апреля 1943 года в газете "Ленинградский партизан" появилась статья Е. Александрова "Торговцы Родиной", 29 апреля - статья Л. Кокотова "Лжерусский комитет" в газете "За советскую Родину", 15 мая эта же газета опубликовала статью А. Павлова "Иудушка Власов" {713}. Наконец, 4 июля 1943 года в ряде фронтовых газет ("За правое дело", "За честь Родины", "На разгром врага" и др.) появилась статья "Смерть презренному предателю Власову, подлому шпиону и агенту людоеда Гитлера", в которой отразилась официальная позиция Главного политического управления Красной армии {714}.
Уже по этим первым публикациям видно, что советской контрпропаганде не хватает настоящих аргументов. Растерянность совет русского руководства выражается даже не столько в нагромождении крепких выражений и оскорблений (это в какой-то мере понятно), сколько в том, что почти во всех пунктах советским авторам пришлось прибегнуть к передергиваниям или попросту ко лжи. Основной целью советской пропаганды было морально уничтожить Власова, в расчете, очевидно, на то, что тогда провозглашенная им политическая идея провалится сама собой. Но это было не так-то легко: ведь имя Власова было хорошо известно. В свое время советская пресса много писала о полководческих заслугах Власова, командовавшего советскими войсками на узловых участках фронта, командира 4-го механизированного корпуса под Лембергом (Льво-вом), командующего 37-й армией под Киевом, заместителя командующего Западным направлением, командующего 20-й армией под Москвой и 2-й ударной армией под Любаныо и наконец - заместителя командующего Волховским фронтом. Для дискредитации столь прославленного военачальника требовались убедительнейшие аргументы. Поэтому в ход вновь пошли обвинения в "контрреволюционной, троцкистской заговорщической деятельности": те самые, что уже сослужили службу в период "большого террора" 1937-38 гг., во Время ликвидации руководства Красной армии - не одних только маршалов Советского Союза Блюхера, Егорова и Тухачевского, но и 35 тысяч офицеров, половины всего офицерского состава армии, двух третей политработников Красной армии и военно-морского флота{715}.
В заявлении Главного политического управления Красной армии от 4 июля 1943 года Власов предстает активным членом организации врагов народа, которая в свое время вела "тайные переговоры" с немцами о продаже Советской Украины и Белоруссии, а с японцами - о продаже советского Дальневосточного побережья и Сибири. Тут неизбежно возникает вопрос, как же Власову после раскрытия этой заговорщической деятельности удалось избежать судьбы всех его товарищей. Оказывается, он "покаялся и умолял о прощении"*, и советское правосудие не только простило его, но еще и дало ему возможность искупить его мнимые преступления службой в Красной армии - да к тому же на посту крупного военачальника! Все это звучит совершенно неправдоподобно, и любой здравомыслящий человек без труда разглядел бы абсурдность выдвинутых против Власова обвинений. Дальше говорится о том, что Власов злоупотребил оказанным ему доверием, при первой же возможности сдался в плен "немецким фашистам" и пошел к ним на службу в качестве шпиона и провокатора. В доказательство этого второго, "еще более тяжкого преступления * приводится лишь один аргумент - то, что Власов вернулся из немецкого окружения. В те дни быть окружением в Красной армии считалось военным преступлением, множество солдат и офицеров были расстреляны лишь за то, что попали в окружение{716}. Но в данном случае - и по отношению лично к Власову - факты представлены в совершенно ложном свете. Столицу Украины, по приказу Ставки и вопреки мнению командиров, обороняли до последнего момента, до полного окружения города немцами. Только 18 сентября 1941 года, когда организованное отступление было уже невозможно, Власов получил приказ сдать Киев и отступить{717}. Именно вследствие этого стояния в Киеве, преподносящегося почти во всех советских военно-исторических сочинениях как славная страница войны, Власов и части его армии чуть не погибли в окружении.
Но и на этом передергивания и нагромождение несуразностей не кончаются. Тщетно стали бы мы искать в статьях о Власове объяснение тому, как же этот военачальник, находившийся на службе иностранной разведки, "вновь" получил высокий командный пост и в критический момент битвы за Москву был брошен на решающий участок советской обороны. При такой логике уже не удивляешься выводу, что ответственность за гибель 2-й ударной армии несет не Сталин и не Ставка, а один лишь Власов. Вопреки всем фактам в статье утверждается, что Власов намеренно загнал доверенную ему армию в окружение, довел ее до гибели, а затем перебежал к своим немецким хозяевам и начальникам, "окончательно разоблачив себя" перед советскими людьми как "гитлеровский ставленник, предатель и убийца"*.
Советская пропаганда в лучших своих традициях изображает Власова " немецким лакеем", ползающим перед хозяевами на четвереньках и помогающим "врагам нашей родины мучить русский народ, жечь наши села, насиловать наших женщин, убивать наших детей и позорить наше национальное достоинство"*. Неудачное высказывание в "Открытом письме" Власова - что он разовьет свои представления о новой России "в свое время" - становится доказательством отсутствия у него каких бы то ни было конструктивных целей. Павлов, автор статьи "Иудушка Власов", иронизирует:
В свое время, господин генерал, но почему бы не сейчас? С каких это пор честные политики скрывают от народа свои воззрения? Но в том-то и дело, что Власов не политик, он шулер, который боится раскрыть свои меченые карты *.
Между тем достаточно лишь взглянуть на 13 пунктов Смоленского обращения, чтобы понять политические цели Русского освободительного движения. Здесь в числе оснований для перестройки жизни в России названы: неприкосновенность личности и жилища, свобода совести, убеждений, религии, собраний и печати, свободная экономика и социальная справедливость, национальная свобода народов России. В свете обвинения Власова в прислужничестве немецким захватчикам странно звучит прямо противоречащее германской политике требование почетного мира с Германией и признания русского народа равноправным членом в семье новой Европы. И хотя автор статьи "Торговцы Родиной" Александров не слишком ошибался, назвав Русский комитет "лавочкой" (полковник Боярский в одном из писем к Власову выразился аналогичным образом{718}), но в 13 пунктах Смоленского обращения впервые сформулированы те требования, которые в развернутой форме в конце концов нашли свое выражение в Пражском манифесте 14 ноября 1944 года.
Провозглашенные в Смоленском обращении политические тезисы обладали такой взрывной силой, что советское руководство даже не осмелилось вступать с ними в пропагандистскую полемику. Впрочем, не один только сталинский режим был заинтересован в сокрытии обращения - немецкое руководство, исходя из аналогичных причин, категорически запретило его распространение по эту сторону фронта. Чтобы ознакомить с текстом обращения жителей оккупированных районов, пришлось прибегнуть к хитрости - самолеты, разбрасывавшие листовки, "по ошибке" сбились с курса.
Гитлер 8 июня 1943 года выразил свое недовольство политической деятельностью Власова и категорически отказался менять Свою политику в свете тезисов Русского комитета, а также высказался против создания русской армии, потому что, по его словам, это означало бы отказ от первоначальных целей войны{719}. Решительность, с которой Гитлер парализовывал деятельность русского генерала, убедительно опровергает версию советской пропаганды о Власове как "фашистском наемнике и презренном лизоблюде". Вообще само отношение Гитлера к Власову свидетельствует о том, что русский генерал никак не мог служить интересам фюрера - его усилия были направлены на создание самостоятельной национальной русской "третьей силы" - между Гитлером и Сталиным.
Из статьи в центральном органе Главного политуправления армии красноармейцы не могли вынести ни малейшего представления об истинных намерениях Власова. Неудивительно, что в этой публикации искажен также и облик солдат РОА. Власов, говорится в статье, с помощью немцев старается "сколотить несколько частей из таких же подонков, как он сам... и силой и обманом-заманить туда немногочисленных пленных"*. Это сомнительное утверждение было тут же опровергнуто в " Открытом письме добровольцев Русской освободительной армии", распространявшемся в виде листовки, где подчеркивалось, что невозможно силой всучить мощное оружие многотысячной армии. К тому времени речь шла уже не о тысячах, а о сотнях тысяч вооруженных борцов против сталинского режима. На 5 мая 1943 года кроме "экспериментальных армий" и нескольких крупных полностью русских формирований под немецким командованием (таких, как 1-я казачья дивизия, три отдельных казачьих полка - "Платов", "Юнгшульц" и "5-й Кубанский") имелось 90 русских "восточных батальонов", а также 140 более мелких русских формирований, 90 полевых батальонов и многочисленные отдельные части Восточных легионов и Калмыкский кавалерийский корпус. К тому же по меньшей мере 400 тысяч добровольцев служили на штатных должностях в немецких частях, а 60-70 тысяч работали в службе обеспечения общественного порядка местной вспомогательной полиции военного управления{720}. Все эти русские солдаты стремились к изменению политической ситуации у себя на родине, а это в существовавших условиях было возможно лишь насильственным путем - путем гражданской войны. И не странно ли, что именно большевики, объявившие гражданскую войну единственно справедливой (пока дело шло об установлении их власти), сейчас особенно возмущались тем, что Власов хочет, по их словам, натравить одну часть русского народа на другую и развязать братоубийство? Тут следует вспомнить, что Русский комитет призывал к борьбе "против ненавистного большевизма" всех русских, приглашал записываться в ряды Освободительного движения всех соотечественников, независимо от их политической позиции в советском государстве. Исключение делалось лишь для тех, кто добровольно пошел на службу в карательные органы НКВД.
В советской антивласовской пропаганде бросается в глаза один примечательный момент: она ограничивалась призывами к защите родины, России, "святого правого русского дела", не решаясь пускать в ход аргументы о защите дела большевиков, "завоеваний Октября" и пр. Новой была и трактовка образа большевиков, которые представлялись, в первую очередь, вернейшими и преданными друзьями и самой России, и русского народа. В этом тоже можно усмотреть симптомы растерянности, в которую повергло советских руководителей появление Власова. В ход были пущены традиционные ценности русского прошлого, получила слово и православная церковь: в годы войны многолетнее наступление против нее было по тактическим причинам приостановлено. 12 (25) апреля 1943 года митрополит Ленинградский Алексей направил пасхальное послание священнослужителям и верующим городов и деревень, еще занятых вражеской армией, где сравнивал войну с извечной борьбой добра и зла, в которой, как во времена святого князя Александра Невского, на одной стороне стояли в образе немцев темные дьявольские силы, вознамерившиеся поработить русский народ и его духовную жизнь, а на другой - силы родины и ее геройские защитники - воины Красной армии{721}. Митрополит Алексей звал всех на "священную войну", призывал мужчин и женщин вступать в ряды партизан, воевать "за веру, за свободу, за честь родины". Эта попытка представить картину "мирной и радостной жизни в свете истинной святой веры" - в Советском Союзе, где христианство подвергалось жестоким гонениям! - не могло не вызвать возражений в православных кругах.
За пределами советского господства духовенство - именно вследствие своей оппозиции к оккупационной политике Германии - проявило нескрываемую симпатию к Власову, показав тем самым несостоятельность аргументов митрополита Алексея. Митрополит Анастасий, глава Русской православной церкви за рубежом, отколовшейся от русской патриархии после съезда епископов в Карловаце, и митрополит Германии Серафим были близки к Освободительному движению. Анастасий по собственному почину обратился к Власову, обещая ему поддержку Архиерейского Синода{722}. 19 ноября 1944 года, после обнародования Пражского манифеста, он на торжественном молебне в берлинской русской православной церкви призвал верующих во имя "тысяч и тысяч мучеников... объединиться вокруг нашего национального освободительного движения"* и внести свой вклад "в великое дело освобождения нашей родины от страшного зла большевизма"*{723}. Весной 1943 года, услышав о том, что генерал Власов вроде бы назначил протопресвитером РОА архимандрита Гермогена, бывшего секретаря Серафима и, следовательно, члена зарубежной церкви, считавшейся раскольнической, с посланием к Власову обратился известный священнослужитель патриаршей церкви экзарх Прибалтики митрополит Сергий. В послании о "религиозном обслуживании власовской армии"{724} митрополит Сергий подчеркивал: то, что русской освободительной армией командует генерал-эмигрант, а во главе духовенства этой армии поставлен епископ-эмигрант, не должно отражаться на влиянии армии по обе стороны фронта. Предложив создать церковный центр для оккупированных районов, Сергий призвал, кроме того, к назначению протопресвитера также и от патриаршей церкви, объясняя, что только так можно опровергнуть советские слухи, будто немцы хотят из Берлина руководить русской православной церковью, чтобы "сломить этот бастион русского национального самосознания"*. Это означало бы, что РОА принципиально признает авторитет Московской патриархии, причем исключительно в вопросах веры, но не в политических делах (что вполне соответствует каноническому праву); только таким признанием делалась возможной борьба с большевистской пропагандой "в церковном секторе". Так как русская патриаршая церковь, с точки зрения митрополита Сергия, пребывала в состоянии пленения, он считал политические высказывания московского и ленинградского митрополитов " навязанными или искаженными большевиками"* и потому не обязательными для верующих. Поэтому борьба за "освобождение церкви" от большевизма становилась священным долгом православных.
В поддержку Власова выступил также и председатель собора епископов Белоруссии митрополит Пантелеймон{725}.
Тот факт, что Власова и РОА поддерживала не только зарубежная церковь, но и известные священнослужители патриаршей церкви, находившиеся в оккупированных районах, очень беспокоил советское правительство. Не исключено, кстати, что именно это и послужило причиной смерти митрополита Сергия: 23 апреля 1944 года во время поездки из Вильнюса в Ригу он был убит партизанами при странных обстоятельствах. В послевоенные годы советская пропаганда распространила версию, будто митрополит использовал свое положение для просоветской пропаганды и потому был устранен по поручению немцев{726}. Советская пропаганда без всяких оснований пыталась связать с этим делом полковника Позднякова, который в это время был уполномоченным генерала Власова и РОА при группе армий "Север". Однако из всех имеющихся документов следует, что митрополит Сергий не скрывал своей вражды к большевизму и активно выступал за сотрудничество патриаршей церкви с вла-совским движением{727}. Весной 1943 года он встречался в Пскове с Власовым и подружился с ним. Не случайно и то, что его секретарь И. Д. Гримм, бывший капитан Павловского лейб-гвардейского полка и профессор государственного права Дерптского университета, позже играл ведущую роль в юридическом отделе КОНР, а его сын был в РОА пропагандистом.
С мая 1943 года в районах, оккупированных немцами, началась целенаправленная пропагандистская кампания против Власова. Здесь распространялись советские антивласовские листовки, адресованные всему населению, но в особенности - крестьянам (в связи с объявленным немцами "введением крестьянской собственности на землю"). Приведем несколько названий листовок{728}:
1. "Открытое письмо рабочих и крестьян районов Псков и Остров предателю-генералу Власову. Отвечай, изменник Власов!"
2. "Власов - агент немецких фашистов".
3. "Как Власов продал крестьян немцам?"
4. "Русский не будет братоубийцей".
5. "Смерть фашистскому наймиту Власову!".
6. "Убей предателя Власова" (по-немецки)
7. Листовка политуправления Северо-Западного фронта "Кто такой Власов", адресованная "населению временно оккупированных районов Ленинградской области".
Эти листовки преследовали ту же цель, что и газетные статьи: доказать, что Власов не имеет никакого отношения к русскому народу, представить его выродком, прокаженным, бессловесным инструментом в руках немецких поработителей. Таким образом советская пропаганда пыталась справиться с новым явлением: отчаявшееся население оккупированных районов связывало свои последние надежды с Власовым, и в борьбе против этого годились любые средства. На этом этапе советские пропагандисты отказались от полемики с общественно-политической программой Смоленского обращения, упомянув его лишь однажды мимоходом, да и то в искаженном контексте. Они прибегали, прежде всего, к очернению Власова, который изображался как Иуда, прожженный негодяй, фашистский прислужник, пугало в генеральской форме, фашистский попугай, убийца, преступник, мошенник, подлец, обманщик, подонок, головорез, ублюдок, ничтожество. Его сравнивали с самыми несимпатичными животными, называли сукиным сыном, безродной дворняжкой, гадом, насекомым... В "Открытом письме рабочих и крестьян районов Псков и Остров" говорится: "Но ты, собака, скоро подохнешь. Только покажись во Пскове - и мы тебя тут же прикончим, гад". В других местах о Власове писали, что главная его цель - помочь немцам "закабалять русский народ", обманывать крестьян, чтобы "превратить их в рабов немецких помещиков и капиталистов". Однако, пытаясь объяснить народу, как же среди "прославленных советских генералов" мог затесаться такой выродок, пропагандисты совершали явную промашку. Они писали, что политуправление Красной армии якобы давно раскусило "троцкистского заговорщика" Власова, завербованного в шпионы задолго до перехода к немцам. А затем вдруг выяснялось, что он "долго" находился в немецком концентрационном лагере, что "понадобились почти два года кровавой работы в подвалах гестапо, чтобы отыскать жалкую горстку предателей: Власова, Малышкина и прочих"*. И, разумеется, для привлечения советских генералов в лагерь противника потребовались или подкуп, или насилие. Возможность возникновения в политико-историческом контексте германо-советской войны организованного сопротивления большевизму советской теорией не предусматривалась.
С июня 1943 года начали во множестве появляться обращения непосредственно к "солдатам и офицерам" РОА, "добровольческой армии" или "власовской армии"{729}. Как тут же было отмечено немецкой контрпропагандой, Сталину пришлось сбрасывать над немецкими окопами листовки на русском языке, тем самым признав существование РОА. Эта агитация сыграла свою роль в событиях последующих месяцев. Из пропагандистских материалов того периода у нас имеются следующие{730}:
1. Листовка штаба партизанского движения "Кого обманывает изменник генерал Власов".
2. Листовка районного комитета ВКП(б) гор. Навли "К солдатам так называемой "Русской освободительной армии" и полицаям".
3. Листовка "К вам наше слово, солдаты Власова!"
4. Листовка "Что такое РОА?"
5. Воззвание политуправления Северо-Западного фронта: "Русские, украинцы, все бывшие красноармейцы, находящиеся в фашистском плену и завербованные на службу в немецкую армию".
6. Листовка "Решающий час близок! На чьей вы стороне? Всем советским гражданам, завербованным на службу в немецких войсках и бандах предателя Власова".
7. Приказ военного совета Северо-Западного фронта от 15 августа 1943 года "Ко всем бывшим военнопленным, русским, украинцам, белоруссам и другим гражданам, завербованным на службу в германскую армию".
(Листовки 1, 2, 4 и б имеются только в немецком переводе.)
Главным аргументом в этих листовках было быстрое ухудшение военного положения Германии, изменение в расстановке сил в пользу СССР и его союзников. В них подчеркивалось, что "гитлеровская военная машина" под ударами Красной армии закачалась и трещит по всем швам, Германия несет неслыханные потери и создание "армии из русских"* сейчас, в 1943 - а не в 1941 году - объясняется настоятельной потребностью в пушечном мясе. Того, что немцы не могли добиться силой, они хотят добиться обманом, используя для этого Власова. Но как бы ни бросался Власов высокопарными словами о новой России, маскируя свое предательство, всем ясно, что РОА - это всего лишь пособники немецко-фашистских бандитов. Советские пропагандисты изначально отказывали РОА в праве на существование, а членам армии отводили роль наемников, "проливающих кровь русских братьев для самого жестокого и ненавистного врага русского народа... людоеда Гитлера"*. В заключение солдатам РОА еще раз внушалось, что
Денно и нощно из всех фашистских дырок лают без устали всевозможные Власовы, Октаны и Каминские... Советская родина давно отшвырнула от себя этих подонков, и они нашли временное пристанище в фашистских собачьих будках. Ведь там берут на службу любую дрянь, если только она готова без запинки тявкать по фашистским заявкам *.
Советские пропагандисты умело играли на том, что многие добровольцы ввиду изменившегося военного положения стали все чаще задумываться о своей будущей судьбе. В листовках задавался вопрос: что же станет с ними после неизбежного поражения Германии? Всех, кто из подлости или из страха согласился служить немцам или Власову (по логике листовок это было равнозначно), ожидает позорная казнь, пощады им не будет: "собаке собачья смерть!"
После таких угроз, подкрепленных намеком на хорошо известный всем советским гражданам обычай судебной ответственности членов семьи, читателям листовок предлагался выход. Известно ведь, что фашистские палачи довели их до отчаяния, что в большинстве своем они были принуждены к вступлению во власовскую армию угрозами, насилием и обманом. И хотя, утратив "мужество и веру в победу Красной армии" и сделав этот шаг, они совершили преступление, но Родина готова простить их, дать возможность искупить свою вину.
Что же требовалось для того, чтобы уйти от неизбежного возмездия советского государства? Неужели достаточно было всего лишь, как неоднократно подчеркивало политуправление Северо-Западного фронта, перейти в одиночку или с группой на сторону Красной армии или к партизанам? Ничего подобного. В приказе от 15 августа 1943 года военного совета Северо-Западного фронта, в составе командующего фронтом генерал-лейтенанта П. А. Курочки-на, начальника штаба генерал-лейтенанта Н. Ф. Ватутина и ответственного за политработу генерал-лейтенанта В. Н. Богаткина, все заверения такого рода объявлялись лживыми{731}. В этом документе перед "офицерами, унтер-офицерами и рядовыми банд так называемой русской освободительной армии"* ставилась чрезвычайно странная задача: им приказывалось путем вооруженного восстания овладеть районом Псков - Дно - Насва, протяженностью в 200 километров. Военный совет Северо-Западного фронта требовал ни много ни мало уничтожить все немецкие гарнизоны в Пскове, Дне, Порхове, Дедовичах, Насве, Локне и других пунктах, взорвать вокзалы, мосты и прочие подобные объекты, перекрыв пути для доставки подкреплений, убить всех жителей, хотя бы в малейшей степени сотрудничавших с немцами, и после выполнения всех этих задач объединиться с партизанами для совместной борьбы. Перед частями РОА, которые, по мнению советских руководителей, уже находились на фронте, ставилась задача отрезать войска противника от тыловых соединений, разрушить их оборонительные укрепления, депо, мосты, железнодорожные линии и так далее и, установив контакт с частями Красной армии, прорвать фронт и объединиться с Красной армией. Жизнь и прощение родины сулились только тем, кто выполнит этот абсолютно нереальный приказ, всех остальных ждала смерть - как изменников родины. Лишнее доказательство того, что пути назад для солдат РОА не было...
Судя по листовкам, адресованным власовцам, советская пропаганда признала существование РОА. Однако при этом она постоянно пыталась создать впечатление, будто Власову так и не удалось сформировать настоящую армию. В листовках утверждалось, что РОА - это вообще не армия, и уж во всяком случае не русская армия, это - "власовские банды", "несколько рот", "жалкая горстка", собранная воедино силой и обманом, которая "рассыпется при первом же столкновении с нашими частями"*. Но за этой напускной уверенностью скрывалась глубокая тревога. В беседе с польским послом Т. Ромером в присутствии Молотова 26-27 февраля 1943 года в Кремле на замечание посла о том, что "против Красной армии готовы воевать... формирования бывших военнопленных украинского, русского, грузинского, азербайджанского и пр. происхождения", Сталин ответил: " Имеются и русские, которые образцово служат немцам и встают на их сторону. В семье не без урода"*{732}.
Еще 26 декабря 1942 года ГПУ Красной армии в приказе № 001445 предупреждало о возможном выступлении освободительной армии и требовало принять соответствующие меры{733}. В районе действий РННА, как 17 февраля 1943 года доносил Власову подполковник Бочаров, советское командование объявило красноармейцам, что это "переодетые немецкие войска". Во избежание контактов с ними советским частям были отданы приказы не мешать продвижению этих войск, не минировать шоссе, не нападать на группы снабжения и вообще не предпринимать ничего, что могло бы спровоцировать боевые действия.
О том, как опасен был Власов для советской власти, свидетельствуют и попытки "любыми средствами, любой ценой" обезвредить некогда прославленного полководца, доставить его "живым или мертвым на советскую землю". В марте 1943 года на него охотились партизанские группы Григорьева и Новожилова. В мае начальник ленинградского штаба партизанского движения М. Н. Никитин передал по радио через оперативную группу при штабе Северо-Западного фронта срочный приказ убить Власова в Дедовичах, Порхове или Пашеревичах: очевидно, примерное местонахождение генерала было известно{734}. В Берлине покушение на Власова должен был совершить лейтенант Августин, сотрудник созданного в СССР комитета "Свободная Германия". Его сбросили с парашютом в германский тыл{735}, но он был арестован. 24 мая 1943 года у немецких передовых постов в районе Ярцево появился майор Красной армии С. Н. Капустин, выдавший себя за перебежчика{736}. Ему удалось завоевать доверие военных властей и пробраться в Берлин, где он безуспешно пытался проникнуть к Власову. Генерал-майор Ма-лышкин после беседы с "перебежчиком" счел его версию подозрительной, и действительно, позже Капустин был разоблачен как советский агент и дал показания. Выяснилось, что он должен был не только собрать материалы о РОА, но еще и подготовить к октябрю 1943 года ликвидацию Власова, Малышкина и других руководителей армии.
Судя по подробным инструкциям, полученным Капустиным, советское руководство, вопреки всем пропагандистским заверениям, очень серьезно относилось и к существованию Русского комитета, и к возможному скорому выступлению РОА (которое на самом деле имело место лишь в конце 1944 года, да и то в очень ограниченном масштабе). Летом 1943 года к делу подключилась советская военная разведка. Шпионская организация " Красная капелла", которую в Москве считали еще действующей, хотя на самом деле она к тому времени была уже разгромлена, получила по радио задание собрать данные об армии Власова, числе подразделений и личном составе, местонахождении, фамилиях офицеров, вооружении и методах пропаганды. Как пишет резидент советской разведки и руководитель " Красной капеллы" Леопольд Треппер, Центр требовал точнейшей информации, чтобы для выяснения максимального количества деталей проверить уже имеющиеся у него данные{737}.
Москва представляла себе РОА в виде сплоченных вооруженных сил, состоящих из всех родов войск, разделенных на армии, армейские корпуса, дивизии, имеющих центральный руководящий орган - генеральный штаб, соответствующие учебные заведения типа центрального военного училища и офицерских школ. Советское руководство всячески стремилось разузнать, когда и на каком участке фронта следует ожидать выступления РОА, будет ли она воевать самостоятельно или вместе с немецкими частями. Вообще, по тому интересу, который проявляло советское руководство к пропагандистским и агитационным органам РОА и ее разведывательной службе, можно судить о том, насколько высоко оценивало оно пропагандистское воздействие РОА и насколько низко - возможности собственной контрпропаганды.
Но не только это тревожило советское руководство: оно было обеспокоено также возможностью вооруженных выступлений внутри СССР. В число заданий агента Капустина входило также выяснить, какой отдел Русского комитета руководит антисоветским партизанским движением в СССР, выявить систему связей, методы снабжения оружием и боеприпасами и вообще способ действий "подпольных групп и антисоветских партизанских отрядов". Кроме того, советское руководство не исключало возможности возрождения, под руководством Комитета, широкого антисоветского движения "в городах, на заводах и фабриках" глубокого тыла. Очевидно, на первых порах оно было напугано перспективой возможной гражданской войны: задание Капустина и засланного вместе с ним лейтенанта госбезопасности П. Ларионова, в свое время осужденного за взятки, можно объяснить лишь полной беспомощностью и некомпетентностью тентностью. Кроме выполнения различных шпионских заданий они должны были, с целью разложения РОА, создать надежную агентурную сеть из офицеров армии и "террористические группы" во всех основных органах РОА, в Русском комитете и в генштабе и подготовить их переход на сторону Красной армии.
Обостренная реакция советских властей на появление Власова, на мнимое создание Русского комитета и возникновение Русской освободительной армии позволяет нам сделать несколько замечаний общего плана. Впервые за все время войны Советский Союз был вынужден перейти в оборону в сфере политической пропаганды. Можно представить себе, каков был бы эффект, если бы Освободительному движению действительно дали возможность организоваться и поставили бы на службу этому делу все технические средства! Например, если бы приняли предложение начальника Отдела иностранных армий Востока в генеральном штабе ОКХ полковника Гелена от 13 июня 1943 года о продолжении "власовской пропаганды... с усиленной интенсивностью", "путем массированного сбрасывания около миллиона листовок Власова и РОА" над крупными населенными центрами Москва, Ленинград, Горький, Куйбышев, Саратов-Энгельс, Пенза, Воронеж, Ростов, Астрахань, Калинин, Калуга, Тула, Рязань и т.д.{738}. По мнению Гелена, такие действия постепенно вынудили бы советское правительство вступить в открытую полемику с Власовым и тем самым способствовать пропаганде его идей.
Мы уже говорили о том, как оптимистически оценивал сам Власов перспективы возглавляемого им движения. 17 февраля 1943 года на совещании в берлинской гостинице "Эксельсиор" с участием генералов Жиленкова, Малышкина, Благовещенского, а также полковника Риля и подполковника Бочарова из РННА он заметил, что не стал бы вкладывать душу в идею Русской освободительной армии, если бы хоть на минуту сомневался в ее успехе. А немного спустя полковник Боярский даже взял на себя смелость заявить, что Освободительное движение может в три месяца успешно завершить войну в России. Он сказал: "У нас мощные связи с ведущими военачальниками Красной армии и политическими деятелями. Целые дивизии перейдут к нам или же будут нам подыгрывать"*{739}. Однако непременной предпосылкой всякого политического или военного успеха Боярский считал создание Русского национального правительства и Русской освободительной армии с исключительно русским командованием и их признание.
Эти намерения русских офицеров совпадали с пожеланиями их покровителей в вермахте и учреждениях рейха, которые также начинали ощущать позитивное воздействие "власовской акции". Известие о том, что советский военачальник открыто призвал к борьбе против Сталина, вызвало в апреле-мае 1943 года "большой интерес" не только на Восточном фронте, но и за границей, в союзных, нейтральных и враждебных странах. Как сообщал бывший посол в Москве граф Шуленбург, распространилось мнение, что эта акция "при умелом руководстве немецкой стороны может обусловить решительный поворот в войне в пользу Германии"{740}.
В мае-июне 1943 года "власовскую проблему" живо комментировала шведская пресса{741}. 8 мая "Афтонбладет" в международном обзоре сообщила, что генерал Власов встречался по различным поводам с Гитлером. 25-26 мая главной политической сенсацией некоторых стокгольмских газет стало "сообщение о создании власовской армии". "Дагпостен" и "Нюа Даглигт Аллеханда" писали 25 мая, что Советскому Союзу, возможно, предстоит гражданская война. "Афтонбладет" 30 мая опубликовала интервью своего берлинского корреспондента "с адъютантом генерала Власова о программе национального возрождения русского народа". 1 июня "Социал Демократен" перепечатала изложение статьи из газеты военнопленных "Заря" "о жизненном пути и политических целях Власова". И наконец, "Стокгольме Тиднинген" в тот же день привела оценку численности власовской армии - 560 тысяч человек!
17 июня немецкий посланник в Стокгольме Ганс Томсен сообщил о беседе с королем Густавом V после вручения ему "собственноручного письма фюрера"{742}. Шведский король, по словам Томсена, проявил большой интерес "к национальной русской организации генерала Власова. Его очень обрадовали мои слова, что это движение в ближайшее время примет большой размах". Германский посол Франц фон Папен сообщал из Анкары, что после развертывания власовской армии на немецкой стороне и создания комитета "Свободная Германия" на советской стороне англичане явно почувствовали возросшую опасность "достижения немецко-русского соглаше-ния"{743}.
Влиятельные офицеры генштаба и Восточной армии пытались окончательно склонить Гитлера к ведению политической войны на востоке, то есть хотели направить немецко-советскую войну в русло антисоветской гражданской. В различных заявлениях{744} они доказывали, что "власовская акция", начатая "как пропагандистский трюк, вызвала к жизни "целое движение, которое развивается по своим законам и приняло такие масштабы, что его уже невозможно остановить без ущерба для немецких интересов. Всякая попытка в этом направлении подорвет доверие к немецкой военной пропаганде во всем мире, а национальное русское движение обернется тогда против самих немцев как иноземных поработителей русского народа. Поэтому немецкая сторона должна придать власовскому движению официальный характер. Ведущие деятели генштаба и министерства иностранных дел советовали как можно скорее создать под началом Власова настоящий русский комитет и дать Власову должность главного инспектора Восточных войск. Конечно, о главной цели, которую ставили перед собой все оппозиционные к восточной политике Гитлера круги, - о признании русского правительства и формировании русской армии - здесь говорилось очень завуалированно, пока что обсуждалось лишь участие Власова в управлении оккупированными районами и в командовании "национальными силами". Но Гитлер, до которого предложения такого рода доходили различными путями, оказался достаточно проницателен и немедленно наложил на них вето.
8 июня 1943 года в разговоре с начальником штаба ОКВ генерал-фельдмаршалом Кейтелем и начальником генерального штаба ОКХ генералом Цейтцлером Гитлер категорически и "окончательно" высказался против активизации Русского освободительного движения и создания русской армии до конца года{745}. 1 июля 1943 года он подтвердил это решение на созванном им совещании командующих армиями на Востоке, обосновав его тем, что, как учит опыт истории, "такие национальные движения в моменты кризиса всегда обращаются против державы-захватчика". В качестве примера он привел неудачу 1916 года, когда польскую армию попытались поставить на службу немецко-австрийскому военному руководству. При этом, однако, Гитлер не учел одного важного момента: осуществления своих политических чаяний поляки могли ожидать только от союза с державами Антанты, а никак не с державами Четверного союза. Во второй мировой войне дело обстояло как раз наоборот: если крушение сталинского режима вообще было возможно, то национально настроенные русские могли надеяться достичь его лишь в союзе с Германией. Для Власова не было пути назад. Гитлер же под различными предлогами отказывался помочь ему. Отныне имя Власова разрешалось использовать лишь в пропагандистских целях для обмана противника.
Сам же Власов из-за своих "резких и некомпетентных высказываний" был, по приказу фельдмаршала Кейтеля, посажен под домашний арест, и Кейтель пригрозил ему, что, если такое повторится, за генерала возьмется гестапо. Искусственное "прекращение власовской акции" и "затишье вокруг власовской армии" положило конец всем надеждам и вызвало глубочайшее разочарование русской и немецкой стороны{746}. Даже верные сторонники Власова пали духом. Показательна в этом плане история генерал-майора А. Е. Бу-дыхо, бывшего командира дивизии Красной армии, сменившего полковника Боярского на посту "штабного офицера по обучению и подготовке восточных войск" в немецкой 16-й армии. Будыхо поддался на посулы советской пропаганды и в ночь на 13 октября 1943 года перешел с ординарцем к партизанам. После его внезапного исчезновения было устроено расследование, а командующий группой армий "Север" генерал-фельдмаршал Г. фон Кюхлер и командующий 16-й армией генерал-фельдмаршал Э. Буш обменялись весьма раздраженными посланиями{747}. Однако Будыхо не удалось обмануть судьбу: вскоре немцы взяли в плен советского офицера, сброшенного с парашютом, и тот рассказал, что перебежчик, имевший знаки различия генерал-майора РОА, был расстрелян по решению партизанского суда, "который приговаривает к смерти всех солдат РОА" 63.
Подводя итоги, можно сказать, что власовская акция 1943 года не удалась лишь по вине Гитлера. Дело не в том, что, как торжествующе утверждала советская пропаганда летом 1943 года, Власову, несмотря на все его усилия, "не удалось" создать армию, но в том, что, к величайшему огорчению самого генерала, его русских соратников и немецких покровителей, за это столь перспективное начинание, по существу, даже и не смогли толком взяться. Вердикт Гитлера создал политический вакуум, подготовил ту почву, на которую смогла опереться советская пропаганда. Наряду с ухудшением военного положения это явилось одной из причин явлений разложения в добровольческих формированиях во второй половине года{748}, после чего значительную часть их перевели на западный и южный европейские театры военных действий. Вопреки распространенному в литературе мнению, ведущие деятели РОА, например Буняченко, всячески приветствовали этот перевод и даже способствовали ему, надеясь, что вдали от советского влияния формирования сохранятся до того момента, когда будет санкционировано создание Освободительного движения и их можно будет реорганизовать. Полковник Боярский в июне 1943 года заявил, что события все равно заставят Германию признать русское национальное правительство. И хотя в принципе он оказался прав, благоприятный момент был безвозвратно упущен.
Примечания
{687}Выписки из дневника..., 5.2., 6.2., 10.2., 12.2, 18.2.1946.ВА-МА, архив Позднякова 149/46.
{688}Капитан В. Денисов. История пребывания в плену у американцев генералов Василия Федоровича Малышкина, Георгия Николаевича Жиленкова и группы офицеров штаба ВС КОНР. ВА-МА, архив Позднякова 149/52.
{689}Письмо исполняющего обязанности государственного секретаря Мерфи (на англ. яз.), 11.7.1945, FRUS, 1945, т. 5, стр. 1098.Джозеф К. Грю позднее стал одним из критиков Нюрнбергского процесса, выражал свое удовлетворение по поводу освобождения из военной тюрьмы Шпандау адмирала Деница. См. Doenitz at Nuremberg. In: Repraisal. War Crimes and the Military Professionals. H. K. Thompson, Jr., Henry Sturtz, co-editors. N.Y" 1976, p. 46.
{690}См. также Ф. Титов. Клятвопреступники. В: Неотвратимое возмездие, Москва, 1974, стр. 228, 233.
{691}Львов. Последние дни РОА в Курляндии. ВА-МА, архив Позднякова 149/8.
{692}Ханзен. Служебные записки (на нем. яз.), 1.5.1945, стр. 217.Архив автора. Он же. Заметки (на нем. яз.), стр. 8, там же. Утверждение заместителя начальника центрального управления юридических управлений земель по расследованию нацистских преступлений Штрейма (Alfred Streim. Die Behandlung Sowjetischer Kriegsgefangener im "Fall Barbarossa". Heidelberg, 1981, S. 187), будто немцы убивали раненых и недееспособных членов "национальных соединений" и "хиви", не соответствует истине. Совсем напротив - на добровольцев согласно директиве генштаба ОКХ № 8000/42 (принятой при участии подполковника фон Штауффенберга в августе 1942 г.) распространялась система диспансерного лечения и система обеспечения семей. См. Joachim Hoffmann. Die Ostlegionen, S. 54.(там же, стр. 146 - об обращении с провинившимися добровольцами). Условия лечения и обеспечения были уточнены в приказе о "Денежном вознаграждении членов национальных соединений" генштаба ОКХ № 1/14124/43 от 29.5.1943, архив автора. Добровольцы в национальных соединениях или немецких частях вермахта, раненные на военной службе, и их родственники в конечном итоге получили такие же права на лечение и обеспечение, как и немецкие солдаты и их семьи. Вообще, в добровольческих соединениях было хорошо поставлено санитарное дело, имелся "национальный" санитарный корпус, "национальные" лазареты и дома призрения, а весной 1943 года в Могилеве открылся медицинский научный институт с военным лазаретом для подготовки военных врачей. О санитарном деле в добровольческих соединениях см. Hans Herwarth. Zwischen Hitler und Stalin. Frankfurt am Main, 1982, S. 309.
{693}Выписки из дневника..., 5.1, 13.2.1946.ВА-МА, архив Позднякова 149/46.Швеннингер. Дополнения (на нем. яз.), стр. 13, ИСИ.
{694}В. Штрик-Штрикфельдт. Против Сталина и Гитлера, стр. 248.Generalfeld-marschall Wilhelm Ritter von Leeb. Tagebuchaufzeichnungen und Lagebeurteilungen aus zwei Weltkriegen. Stuttgart, 1976, S. 309.
{695}50 лет Вооруженных Сил СССР. Москва, 1968, стр. 246.История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945, т. 1, Москва, 1960, стр. 465.О бессмысленности подобных выражений свидетельствует хотя бы резкое возрастание числа самострелов в Красной армии, особенно перед боями. В мае 1942 года число самострелов было вдвое выше, чем в июле 1941-го. На Северо-Западном фронте в мае 1942 года отмечено почти в девять раз больше самострелов, чем в январе того же года. Вследствие этого главный военный прокурор Красной армии Носов отдал приказ военным прокуратурам фронтов и отдельных армий применять в случае самострелов смертную казнь. Приказ № ОНО, 18.7.1942, ВА-МА Н 20/290.
{696}Philip Buss. The Non-Germans in the German Armed Forces 1939-1945.Phil. Diss., University of Kent at Cantenbury, 1974, p. 124.
{697}В. Ханзен. Служебные записки (на нем. яз.), 9.1.1943, стр. 8, архив автора. "Родина". Газета соединения войск Русской Народной Армии, № 18, 1.10.1942.Капитан П. Каштанов. РННА - Русская народная национальная армия. ВА-МА, архив Позднякова 149/3.Письмо Дашкевича Позднякову, 2.5.1961, там же. П. Калинин. Участие советских воинов в партизанском движении в Белоруссии. - "Военно-исторический журнал", 1962, № 10, стр. 32.Саломоновский. Два отклика. -"Россия", 1.и 3.7.1970.С. Стеенберг. Власов. Австралия, 1974, стр. 66.К. Кро-миади. За землю, за волю. Сан-Франциско, 1980, стр. 51-103.
{698}В. Ханзен, указ. соч., 12.12.1942, стр. 1.С. Стеенберг, указ. соч., стр. 85.
{699}В. Ханзен, указ. соч., 13.12-16.12.1942, стр. 3-8.Схема структуры национальных формирований. ОКХ/генштарм/генвостарм, № 402/43, секретно, 5.5.1943, ВА-МА, RH 111, 1435.Подполковник Д. Наше начало. ВА-МА, архив Позднякова 149/48.
{700}С. Стеенберг, указ. соч., стр. 91.
{701}Кап. Клименко. Формирование Гиль-Родионова и его конец. Правда о "Дружине". ВА-МА, архив Позднякова 149/3.К. Доморад. Так ли должны писаться военные мемуары? - "Военно-исторический журнал", 1966, № 11, стр. 82-93.
{702}К. Кромиади, указ. соч., стр. 90.Малявин. Псков. ВА-МА, архив Позднякова 149/3.
{703}Отчет о встрече генерал-лейтенанта Власова, генерал-лейтенанта Жиленкова, генералов Малышкина и Благовещенского с полковником Рилем и подполковником Бочаровым в гостинице "Эксельсиор", Берлин, 17.2.1943 (представлен отделом иностранных армий востока начальнику генштаба армии) (на нем. яз.). Акты Гелена 6, Оккупированные районы и восточная политика, № 3, октябрь 1942 - март 1943.Архив автора. Псков как один из центров РОД, стр. 20.ВА-МА, архив Позднякова 149/39."Родина", ВА-МА, архив Позднякова 149/3.
{704}П. Калинин, указ. соч., стр. 33, 35.
{705}"Товарищи командиры! Советская интеллигенция!" в: Ortwin Buchbender. Das tonende Erz. Stuttgart, 1978, S. 222.Бывший командующий 2-й Ударной армии РККА генерал-лейтенант Власов. "Родина", № 26, 29.10.1942.
{706}Обращение Русского Комитета к бойцам и командирам Красной армии, ко всему Русскому народу и другим народам Советского Союза. В: О. Buchbender, ibid, S. 226.В. Поздняков. Андрей Андреевич Власов. Буэнос-Айрес/Сиракузы, 1973, стр. 47.Китаев. Русское Освободительное Движение, стр. 42.ВА-МА, архив Позднякова 149/8.
{707}Почему я стал на путь борьбы с большевизмом? Открытое письмо генерал-лейтенанта Власова. "Заря", № 17, 3.3.1943.
{708}Резолюция, принятая 12 апреля 1943 года на 1-й антибольшевистской конференции бывших командиров и бойцов Красной армии. "Заря", № 30, 18.4.1943.
{709}Поездка генерала Власова в район 16-й армии (на нем. яз.). Командование 16-й армии, отдел 1с, 9.5.1943, ВА-МА RH 58/67.Генерал Власов в батальоне "Волга". ВА-МА, архив Позднякова 149/48.Псков как один из центров РОД, стр. 16.ВА-МА, архив Позднякова 149/39.С. В., Власов во Пскове. "Голос народа", № 13(81), 2.8.1952.
{710}Поездка А. А. Власова в северо-западные районы оккупированной части СССР. ВА-МА, архив Позднякова 149/48.Михайлов. Приезжает Власов. 15.1.1948.ВА-МА, архив Позднякова 149/3.В. Поздняков, указ. соч., стр. 66.Reinhardt Gehlen. Der Dienst. Mainz, 1971, S. 110.Генерал-майор Малышкин в речи в Париже высказал ту же мысль, что Власов: "Германскому верховному командованию не удалось убедить русских в том, что немецкая армия воюет только против коммунизма, а не против русского народа... Россия никогда не была страной рабов, она никогда не была и не будет колонией". Речь генерал-майора Малышкина в Париже 24 июля 1943 (в выдержках). ВА-МА, архив Позднякова 149/52.
{711}Ко всем военнослужащим Красной армии от командования Русской Освободительной Армии, листовка № 689/1V.43 (на нем. яз.), ВА R 6/38.Бойцы, командиры и политработники Красной армии! Командование Русской Освободительной Армии, листовка № 691/1V.43, там же. Что тебе известно о смоленском обращении "Русского комитета"? Добровольцы Русской Освободительной Армии, листовка № 692] 1V.43, там же. Открытое письмо добровольцев Русской Освободительной Армии красноармейцам и советским офицерам, листовка № 751/1V.43 (на нем. яз.), там же. Иллюстрированный боевой путь, № 5, май 1943.Новый путь, № 10(30), 1943.
{712}ОКХ/генштарм/генвостарм/орготд II, № 5000/43, секретно, 29.4.1943.ВА-МА 44065/5.Условия пополнения группы армий (на нем. яз.), ОКХ гр. А, 1а, № ../43, секретно, 14.5.1943, ВА-МА 65993/4.
{713}Речь генерал-майора Малышкина в Париже.... Ю. Жеребков. Русские дни в Париже. ВА-МА, архив Позднякова 149/52.
{714}Речь русского полковника Боярского перед добровольцами восточных батальонов во время инспекционной поездки 26 мая - 16 июня 1943 (на нем. яз.), ВА-МА RH 58/67.
{715}Hitlers Lagebesprechungen. Stuttgart, 1962, S. 268.Письмо Хевеля имперскому министру (на нем. яз.), 9.6.1943, АДАР, серия Е, т. 6, № 92, стр. 157.См. также Hitlers Lagebesprechungen, S. 263.О большом влиянии пропаганды, проводившейся от имени Власова, на население оккупированных районов, на служащих восточных войск и военнопленных см. записку генштаба армии "Развитие и состояние военной пропаганды на Востоке после осени 1942 (власовская акция)" (на нем. яз.), АДАП, серия Е, т. 6, № 85, стр. 145.См. также: Hans von Herwarth. Zwischen Hitler und Stalin. Frankfurt am Main, 1982, S. 332.
{716}Н. К. Попель. Танки повернули на запад. Москва, I960, стр.
{717}В. Чуйков. Гвардейцы Сталинграда идут на запад. Москва, 1972, стр. 71.
{718}Дружинин. Первая листовка А. Власова. ВА-МА, архив Позднякова 149/8.О. Buchbender, ibid, S. 243, 331.
{719}Беседа с пленным генерал-лейтенантом Масановым 22.7.1943.Записка советника посольства Хильгера, 22.7.1943 (на нем. яз.). ПА МИД, Бонн, акты Этцдорфа, т. 24.
{720}Иванов. О листовках Власова. ВА-МА, архив Позднякова 149/3.
{721}Немецкий генерал в Хельсинки (на нем. яз.), отд. 1с, № 1731/43, секретно, в ОКХ/генштарм/отдинармвост II, 28.7.1943, ВА-МА RH 2/v. 2727.
{722}Александров. Торговцы Родиной. "Ленинградский партизан", 5.4.1943, ВА-МА RH 11ч. 2727.Кокотов. Лжерусский Комитет. "За Советскую Родину", 29.4.1943, там же. Павлов. Иудушка Власов, там же, 5.5.1943.Советские фронтовые газеты о власовской акции (обзор прессы) (на нем. яз.), 10.6.1943, там же.
{723}Главное политическое управление Красной армии. Смерть презренному предателю Власову, подлому шпиону и агенту людоеда Гитлера. "За правое дело", № 76, 4.7.1943, там же. Советская пропаганда о власовской акции (обзор прессы) (на нем. яз.). 18.7.1943, там же.
{724}Joachim Hoffmann. Die Sowjetunion bis zum Vorabend des deutschen Angriffs. In: // Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Bd. 4, S. 50.
{725}Joachim Hoffmann. Die Kriegfiihrung aus der Sicht der Sowjetunion, ibid., S. 725.
{726}Там же, стр. 750.
{727}Письмо полковника Боярского генералу Власову, июль 1943, акты Гелена б, Оккупированные районы и восточная политика (на нем. яз.), № 2, июнь 1943 - февраль 1944.Архив автора.
{728}Беседа фюрера с фельдмаршалом Кейтелем и генералом Цейтцлером 8 июня 1943.В: Hitlers Lagebesprechungen, S. 256, 260, 264.
{729}Капитан Дош. Заметки к докладу (на нем. яз.), 2.2.1943.ВА-МА RH 111.2728.Структура национальных соединений. ОКХ/генштарм/генвостарм, № 402/43, секретно, по состоянию на 5.5.1943, ВА-МА RH 2/v. 1435.По сообщению начальника полиции нравов Далюга, численность войск, подчиненных рейхсфюреру СС, в 1942 году возросла от 33 тысяч до 300 тысяч человек. См. Helmut Krausnick, Hans-Heinrich Wilhelm. Die Truppe des Weltanschauungskriegs. Stuttgart, 1981, S. 170.
{730}Смиренный Алексей, Митрополит Ленинградский. Архипастырское послание к пастырям и пастве в городах и селах области, пока еще занятых вражескими войсками. 12/25.4.1943, ВА-МА RH 2/v. 2727.
{731}К. Кромиади, указ. соч., стр. 133.
{732}Слово Митрополита Анастасия (радиозапись). "Воля народа", № 3(4), 22.11.1944.Из архипастырских посланий. Митрополит Анастасий, там же, № 3 (16), 7.1.1945.К. Кромиади. К истокам Освободительного движения. ВА-МА, архив Позднякова 149/8.Кружин. Хроника КОНРа. 19.11.1944, ВА-МА, архив Позднякова 149/27.
{733}Митрополит Сергий, начальник канцелярии И. Гримм. Религиозное обслуживание власовской армии (на нем. яз.), ВА NS 30/152.
{734}Председатель Собора Епископов Белоруссии митрополит Пантелеймон - Комитету Освобождения Народов России. "Воля народа", № 3(16), 7.1.1945.
{735}Хмыров (Долгорукий). Страшное злодеяние. "Голос Родины". ВА-МА, архив Позднякова 149/56.
{736}К. Кромиади. За землю, за волю..., стр. 100.Сергей Фрелих. Рукопись (на нем. яз.), стр. 11.Архив автора. Умер капитан И.Д. Гримм. ВА-МА, архив Позднякова 149/48.
{737}Отвечай, изменник Власов! Власов - агент немецких фашистов. ВА-МА RH 2/v. 2727.Как Власов продал крестьян немцам?, там же. Русский не будет братоубийцей, там же. Смерть фашистскому наймиту Власову!, там же. Убей предателя Власова (на нем. яз.), там же. Политическое управление Северо-Западного фронта. Кто такой Власов?, там же.
{738}И. И. Сергунин. До этого мы занимались разложенческой работой в РОА. В: Оборона Ленинграда 1941-1944.Воспоминания и дневники участников. Ленин-»рад, 1968, стр. 351.
{739}Кого обманывает изменник генерал Власов (на нем яз.), ВА-МА RH 2/v. 2727.К солдатам так называемой "Русской освободительной армии" и полицаям <Га нем. яз.), там же. К вам наше слово, солдаты Власова!, там же. Что такое РОА? (на нем. яз.), там же. Политуправление Северо-Западного фронта. Русские, украинцы, все бывшие красноармейцы, находящиеся в фашистском плену и завербованные на службу в немецкую армию!, там же. Решающий час близок! На чьей вы стороне?, там же. Военный совет Северо-Западного фронта. Ко всем бывшим военнопленным, русским, украинцам, белоруссам и другим гражданам, завербованным на службу в германскую армию, 15.8.1943, там же.
{740}На Северо-Западном фронте 1941-1943.Москва, 1969, стр. 5.
{741}Minutes of Ambassador Romer"s conversation with President Stalin and »;Molotov, 26/27.2.1943.Documents on Polish-Soviet Relations. London, 1967, v. 1, ^ 295, p. 490.
{742}На родину (на нем. яз.). ВА-МА, архив Позднякова 149/3."
{743}Задания по борьбе с бандой Власова. По сообщению перебежчика-партизана Йетрова, перебежавшего 27.4.1943 (на нем. яз.). ВА-МА RH 2/v. 2727.Задачи советской агентуры по борьбе с Власовым (на нем. яз.), 31.5.1943 (в том числе радиоперехваты № 18 и 22 руководителя оперативной группы при штабе Северо-Западного фронта), там же. См. также: Оборона Ленинграда..., стр. 778.
{744}Karl-Heinz Frieser. Krieg hinter Stacheldraht. Mainz, 1981, S. 92.
{745}Итоги допросов шпиона Семена Николаевича Капустина (на нем. яз.). Отдинармвост (III), перевод, № 23/43, 22.7.1943, ВА-МА RH 2/v. 2727.Допрос шпиона Капустина, среди заданий которого значилось создание террористических Групп с целью убийства Власова. Записка советника посольства Хильгера (на нем. яз.), 27.7.1943, ПА МИД, Бонн, Акты Этцдорфа, т. 24.По сообщению Кромиади, Власов просил о помиловании Капустина (К. Кромиади, указ. соч., стр. 130).
{746}Leopold Trepper. Die Wahrheit. Munchen, 1975, S. 218.
{747}Предложения по усилению власовской акции. Докладная записка (на нем. яз.). ВА-МА RH 2/v. 2727.
{748}Отчет об инспекционной поездке командующего восточными войсками особого назначения в сопровождении русского полковника Боярского 25.5 - 16.6.1943 (на нем. яз.), № 17/43, секретно, 24.6.1943, ВА-МА RH 58/67.Заметки о высказываниях русского полковника Боярского (на нем. яз.), 22.5.1943, там же. Зондерфюрер Тройгут. Высказывания русского полковника Боярского о политической ситуации и перспективах, услышанные мною в частных беседах (на нем. яз.), там же. Настроения в русских добровольческих батальонах (мои личные впечатления) (на нем. яз.), там же.
Хоффманн Йоахим
История власовской армии
Хоффманн Йоахим
История власовской армии
Знаком * обозначены цитаты, данные в обратном переводе с немецкого.
Автор: Эта книга, в которой показаны зарождение Освободительного движения и история Освободительной армии и уделено некоторое внимание политическим основам и деятельности КОНР, написана с принципиально новых позиций. В отличие от общепринятой интерпретации, когда власовская армия рассматривается как акция немецких кругов (руководство рейха, СС и вермахт), предпринятая для предотвращения грозившего рейху поражения, в настоящей работе Освободительная армия и Освободительное движение рассматриваются сами по себе и независимо. Автор особенно стремился выделить позитивные моменты в отношениях между немцами и русскими. Национальное русское движение, которому Власов дал свое имя, рассматривается в книге в контексте советской истории, оставаясь при этом частью истории второй мировой войны.
С о д е р ж а н и е
Предисловие
Глава 1. Основы РОА
Глава 2. Высшее командование и офицерский корпус РОА. Обособление РОА
Глава 3. Сухопутные войска РОА
Глава 4. Военно-воздушные силы РОА
Глава 5. Военнопленные становятся солдатами РОА
Глава 6. РОА на Одерском фронте
Глава 7. Поход в Богемию
Глава 8. РОА и Пражское восстание
Глава 9. Значение Пражской операции
Глава 10. Конец Южной группы РОА
Глава 11. Конец Северной группы РОА
Глава 12. Выдача
Глава 13. Советская реакция на Власова
Глава 14. Борьба с феноменом Власова
Глава 15. Историческое место освободительного движения
Послесловие
Документы
Примечания
Предисловие
Научный центр военной истории ФРГ еще в 60-е годы обратился к проблеме добровольческих соединений, набранных из представителей различных народов СССР и служивших в германском вермахте. В 1967 году мой тогдашний начальник, полковник в отставке доктор фон Гроте поручил мне подготовить подробный обзор всех аспектов этой темы. До сих пор в центре моих научных интересов были народности Кавказа, и поэтому я решил сначала заняться добровольческими формированиями, составленными из представителей национальных меньшинств СССР.
В 1974 году я опубликовал работу "Немцы и калмыки", в 1976 вышел первый том истории Восточных легионов. Обе публикации выдержали несколько изданий, что доказывало актуальность избранной мною тематики. Однако по разным причинам мне пришлось прервать занятия Восточными легионами, и центр моих научных интересов сместился. Я вплотную занялся историей Русской освободительной армии и в конце 1982 года представил рукопись начальнику Центра военной истории полковнику доктору Хаклю. Лишь после этого я вернулся к прерванным исследованиям.
На протяжении всего этого периода меня не раз спрашивали, как согласуется изучение добровольческих объединений, обсуждение феномена службы бывших советских солдат в рядах и на стороне "немецко-фашистских сил" с принципами так называемой политики разрядки. Я каждый раз отвечал, что историк не может исходить в своей работе из соображений политической конъюнктуры и что вряд ли политика разрядки оправдывает умолчание исторической правды и прекращение полемики. Надеюсь, читатель найдет, что мой текст выдержан от начала до конца в духе взаимопонимания между немецким и русским народами. Во всяком случае, с советской точки зрения, эта тема, несомненно, чрезвычайно актуальна, хотя и - по точному замечанию обнаруживает "ахиллесову пяту" Советской армии, иначе говоря, ее "морально-политическую" слабость во время второй мировой войны. Но вряд ли у историка есть основания утаивать неприятные кому-то факты.
Интерес к власовскому движению (и его ядру - "власовской армии") не иссяк со временем. В последние годы появилось немало интересных публикаций; другие еще ждут своего часа. В работе над настоящей книгой я пользовался в основном немецкими документами, а также документами и материалами Русского освободительного движения. Среди них следует в первую очередь упомянуть обширное собрание полковника РОА Позднякова, переданное при моем посредничестве из США в военный архив ФРГ. В работе использованы также советские трофейные материалы и публикации по данной теме.
Эта книга, в которой показаны зарождение Освободительного движения и история Освободительной армии и уделено некоторое внимание политическим основам и деятельности КОНР, написана с принципиально новых позиций. В отличие от общепринятой интерпретации, когда власовская армия рассматривается как акция немецких кругов (руководство рейха, СС и вермахт), предпринятая для предотвращения грозившего рейху поражения, в настоящей работе Освободительная армия и Освободительное движение рассматриваются сами по себе и независимо. Автор особенно стремился выделить позитивные моменты в отношениях между немцами и русскими. Национальное русское движение, которому Власов дал свое имя, рассматривается в книге в контексте советской истории, оставаясь при этом частью истории второй мировой войны.
С историей власовской армии, как и с личностью генерала Власова, связано невероятное количество мифов и стереотипов. К сожалению, в последние годы их количество серьезно прогрессирует. Однако проблема заключается в том, что само словосочетание «Власовское движение», если подразумевать его как некое политическое явление, — оно, конечно, значительно шире, нежели то, что называют «власовской армией». Дело в том, что участниками Власовского движения можно считать не только военнослужащих, но и гражданских лиц, которые к военной службе вообще никакого отношения не имели. Например, члены «групп содействия» КОНР, которые возникли в лагерях гастарбайтеров после ноября 1944 года: это гражданские служащие Комитета и его учреждений, подразделений, несколько тысяч человек, — всех их можно считать участниками Власовского движения, но не военнослужащими власовской армии.
Чаще всего при словосочетании «власовская армия» у нас возникает такая ассоциация — Русская освободительная армия (РОА). Но в действительности РОА была фикцией, ее никогда как оперативного объединения не существовало. Это был исключительно пропагандистский штамп, появившийся в конце марта — начале апреля 1943 года. И все так называемые (или почти все) русские «добровольцы», служившие в составе германских вооруженных сил: freiwilliger, отчасти хиви — все они носили этот шеврон и считались военнослужащими армии, которой никогда не существовало. На самом деле они были военнослужащими германских вооруженных сил, вермахта, в первую очередь. До октября 1944 года единственным подразделением, которое подчинялось Власову, была рота охраны, разбросанная в Дабендорфе и Далене, где генерал находился фактически под домашним арестом. То есть никакой власовской армии не было. И только в ноябре 1944 года, правильнее говорить в октябре, начал создаваться действительно достаточно серьезный, квалифицированный штаб.
Кстати, надо сказать, что Власов выполнял больше представительские функции в своей армии. Ее подлинным организатором, человеком, который за шесть последних месяцев сумел добиться очень многого, был Федор Иванович Трухин — профессиональный генштабист, бывший начальник оперативного управления Северо-Западного фронта, заместитель начальника штаба Северо-Западного фронта, попавший в плен в последних числах июня 1941 года. Собственно, именно генерал Трухин и был настоящим создателем власовской армии. Он был заместителем Власова по делам Комитета, военным делам, заместителем начальника военного управления.
Подлинным создателем власовской армии был генерал Федор Трухин
Если говорить о структуре власовской армии, то она складывалась следующим образом: во-первых, Власов и Трухин рассчитывали на то, что немцы передадут под их командование все существующие русские части, подразделения, соединения. Однако, забегая вперед, этого так и не произошло.
В апреле 1945 года в состав власовской армии де-юре вошли два казачьих корпуса: в Отдельном казачьем корпусе в Северной Италии было 18,5 тысяч строевых чинов, а в 15-м казачьем корпусе фон Паннвица без немецкого персонала — примерно 30 тысяч человек. 30 января 1945 года к Власову присоединился и Русский корпус, который был не очень большим по численности, порядка 6 тысяч человек, но состоял из довольно профессиональных кадров. Таким образом, по состоянию на 20 — 22 апреля 1945 года генералу Власову подчинялось примерно 124 тысячи человек. Если же отдельно выделить русских (без украинцев, белорусов), то около 450 — 480 тысяч человек прошло через власовскую армию. Из них 120 — 125 тысяч человек (на апрель 1945 года) можно считать военнослужащими-власовцами.
Аттестацией военнослужащих, прибывавших в офицерский резерв, занималась квалификационная комиссия под руководством майора Арсения Демского. Комиссия оценивала знания, подготовку, профессиональную пригодность бывших советских офицеров. Как правило, за военнослужащим оставалось его старое воинское звание, особенно если сохранялись документы или карточка военнопленного, где это было записано, но иногда ему присваивался и более высокий чин. Например, в Главном управлении пропаганды у Власова служил военинженер II ранга Алексей Иванович Спиридонов — он сразу был принят в РОА полковником, хотя его воинское звание никак этому чину не соответствовало. Андрей Никитич Севастьянов, начальник отдела материально-технического снабжения Центрального штаба, вообще личность в российской истории уникальная (пару слов скажем о нем ниже), получил в РОА звание генерал-майора.
Заседание КОНР в Берлине, ноябрь 1944 года
Судьба Андрея Никитича Севастьянова практически никогда не была предметом внимания историков, исследователей. Он был сыном московского приказчика или даже купца второй гильдии (версии расходятся). Окончил коммерческом училище в Москве, после чего некоторое время учился в Высшем техническом училище. До революции прошел действительную службу в рядах Императорской армии, вышел с чином прапорщика запаса. Началась Первая мировая война. Севастьянов сразу ушел на фронт, закончив войну осенью 1917 года в чине штабс-капитана. В принципе, удивляться здесь нечему. Однако отметим, что за эти три года войны наш герой получил семь боевых российских наград, включая Георгиевский крест 4-й степени и орден Святого Владимира с мечами. Насколько известно, это единственный случай в истории Первой мировой войны, когда не кадровый офицер (Севастьянов был из запаса) получил семь боевых орденов, включая два самых высших. При этом он также заработал тяжелое ранение: при атаке австрийской конницы Севастьянов был ранен клинком в голову и практически весь 1917 год провел в госпитале.
В 1918 году Севастьянов пошел на службу в Красную армию, откуда был уволен за антисоветские взгляды. В течение двадцати лет его то сажали, то выпускали. И вот в 1941 году под Киевом, по одной версии, он перешел на сторону противника сам, по другой — попал в плен.
В Красной армии Севастьянов проходил аттестацию, его карточка находилась в картотеке командно-начальствующего состава, но воинского звания ему так и не было присвоено. Видимо, он ждал. По одной версии, ему должны были дать звание капитана, что соответствовало штабс-капитану, но начальник артиллерии 21-й армии почему-то приказал Севастьянову носить в петлицах по одному ромбу. Получается, что в плен Андрей Никитич попал в звании комбриг, чине, которого в сентябре 1941 года уже не было. И на основании этой записи в РОА Севастьянова аттестовали как генерал-майора.
В феврале 1945 года Андрей Севастьянов совместно с генералами РОА, Михаилом Меандровым и Владимиром Арцезо, который служил у Власова под псевдонимом «Айсберг», был выдан американцами советским представителям. В 1947 году по приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР он был расстрелян.
В апреле 1945 года генералу Власову подчинялось примерно 124 тыс. человек
Если оценивать численность офицерского корпуса власовской армии, то по состоянию на апрель 1945 года она составляла от 4 до 5 тысяч человек в чинах от подпоручика до генерала, включая, конечно, белоэмигрантов, которые присоединились к Власову достаточно компактной группой. В основном это были офицеры Русского корпуса. Например, военнослужащие под руководством генерал-лейтенанта Бориса Александровича Штейфона, героя Эрзурумского сражения 1916 года, коменданта Галлиполийского лагеря, участника Белого движения. Стоит отметить, что практически все офицеры-белоэмигранты занимали в армии Власова отдельные, достаточно важные посты.
Если же сравнивать количество советских офицеров, попавших в плен, с численностью присоединившихся к власовский армии белоэмигрантов, то соотношение будет где-то 1:5 или 1:6. При этом отметим, что последние на фоне командиров Красной армии выгодно отличались. Можно даже сказать, что офицеры Русского корпуса были больше готовы к сближению с власовцами, чем военнослужащие РККА.
Чем это можно объяснить? Отчасти тем, что появление генерала Власова было психологически оправдано в глазах белых эмигрантов. В 30-е годы все журналы белой военной эмиграции («Часовой» и ряд других) с восторгом писали (была очень популярна теория «комкора Сидорчука»), что найдется какой-нибудь популярный командир Красной армии, который возглавит борьбу народа против власти, и тогда мы этого комкора, даже если в Гражданскую войну он выступал против нас, обязательно поддержим. И когда Власов появился (первая встреча Власова с генерал-майором Генштаба Алексеем фон Лампе состоялась 19 мая 1943 года в доме бывшего вице-директора департамента земледелия Федора Шлиппе, соратника Столыпина по аграрной реформе), то произвел очень хорошее впечатление.
Таким образом, еще раз подчеркнем это, белоэмигрантов в рядах власовской армии служило куда больше, чем участвовало в движении сопротивления. Если объективно посмотреть на численность, то около 20 тысяч русских белых эмигрантов в годы Второй мировой войны сражалось на стороне противника.
.jpg)
Солдаты Русской освободительной армии, 1944 год
«Боевое крещение» РОА, если не считать активных боевых действий, которые вели соединения до того, как вошли в армию Власова, состоялось 9 февраля 1945 года. Ударная группа под командованием полковника Игоря Сахарова, сформированная из советских граждан, добровольцев, служивших во власовской армии, и нескольких белоэмигрантов, совместно с немецкими войсками приняла участие в боях с 230-й стрелковой дивизией Красной армии, которая заняла оборону в районе Одера. Надо сказать, что действия РОА были достаточно эффективными. В своем дневнике Геббельс отметил «выдающиеся достижения отрядов генерала Власова».
> Второй эпизод с участием РОА, куда более серьезный, состоялся 13 апреля 1945 года — так называемая операция «Апрельская погода». Это была атака предмостного советского укрепления, плацдарма «Эрленгоф», южнее Фюрстенберга, который защищал 415-й отдельный пулеметно-артиллерийский батальон, входивший в состав 119-го укрепрайона советской 33-й армии. И Сергей Кузьмич Буняченко, бывший полковник Красной армии, генерал-майор РОА, ввел в действие два своих пехотных полка. Однако местность там была настолько невыгодной, и фронт атаки составлял всего 504 метра, причем атакующие подставляли себя еще с фланга под сильный заградогонь советской артиллерии 119-го УРа, что успеха (продвинуться на 500 метров, овладеть первой линией окопов и продержаться на ней до следующего дня) добился только 2-й полк. 3-й полк под командованием Георгия Петровича Рябцева, служившего под псевдонимом «Александров», бывшего майора Красной армии, подполковника власовской армии, потерпел поражение.
Кстати, судьба Рябцева, застрелившегося на демаркационной линии в Чехии уже после Пражского восстания, очень любопытна. В Первую мировую войну он попал в немецкий плен, бежал, будучи унтер-офицером Русской армии, к союзникам, французам. Воевал в Иностранном легионе, потом вернулся в Россию. Служил в Красной армии, в 1941 году был командиром 539-го полка. Попал в немецкий плен вторично, два года просидел в лагере, подал рапорт в РОА и был зачислен в инспекториат генерал-майора Благовещенского.
В глазах белоэмигрантов появление Власова было психологически оправдано
2-м полком руководил подполковник Вячеслав Павлович Артемьев, кадровый кавалерист, кстати, тоже очень интересный персонаж. В немецкий плен он попал в сентябре 1943 года. На родине его считали погибшим, посмертно наградили орденом Красного Знамени. После войны насильственной выдачи советской администрации Артемьев избежал. Умер в Германии в 60-е годы.
А вот история жизни генерала Ивана Никитича Кононова могла бы запросто стать основой для кинематографического фильма или детектива. Бывший красноармеец, командир 436-го полка 155-й стрелковой дивизии, Кононов 22 августа 1941 года с довольно большой группой бойцов и командиров перешел на сторону противника, сразу же предложив создать казачью часть. На допросе немцам Кононов заявил, что он из репрессированных казаков, его отец был повешен в 1919 году, два брата погибли в 1934 году. И, что интересно, немцы сохранили Кононову присвоенное ему в РККА звание майора, в 1942 году он был произведен в подполковники, в 1944 году в полковники вермахта, а в 1945 году стал генерал-майором КОНР. За годы службы вермахту Кононов получил двенадцать боевых наград — это кроме ордена Красной Звезды, приобретенного на родине.
Что касается судьбы полковника Красной армии, генерал-майора КОНР Сергея Кузьмича Буняченко, то в ней много неясностей. Буняченко родился в бедной украинской семье, большая половина которой погибла от «голодомора». В 1937 году на партсобрании он выступил с критикой коллективизации, за что немедленно был исключен из партии. Исключение потом, правда, заменили строгим выговором. В 1942 году Буняченко командовал 389-й стрелковой дивизией на Закавказском фронте и, выполняя приказ генерала Масленникова, взорвал мост на участке Моздок — Червленое до того, как часть подразделений Красной армии успела через него переправиться. Из Буняченко сделали козла отпущения, отправили под суд военного трибунала, приговорили к расстрелу, который потом заменили десятью годами исправительно-трудовых лагерей с отбытием после окончания войны В октябре 1942 года Буняченко вступил в командование 59-й отдельной стрелковой бригадой, серьезно ослабленной, потерявшей в предыдущих боях более 35% личного состава. В середине октября в жестоких оборонительных боях бригада понесла новые потери, а в ноябре была практически уничтожена. В этом поражении также был обвинен Буняченко, которому угрожал новый арест. А далее существует две версии развития событий: по одной из них, Буняченко был захвачен в плен разведывательной группой 2-й румынской пехотной дивизии, по другой, он сам перешел на сторону немцев в декабре 1942 года (однако проблема в данном случае заключается в том, что немцы перебежчиков отправляли в специальные лагеря, а Буняченко до мая 1943 года сидел в обычном лагере).
После Пражского восстания, распустив по приказу Власова дивизию и сняв с себя знаки различия, Буняченко отправился в штабной колонне в штаб 3-й американской армии. 15 мая 1945 года он вместе с начальником штаба дивизии подполковником ВС КОНР Николаевым и начальником дивизионной контрразведки капитаном ВС КОНР Ольховиком был передан американскими патрулями командованию 25-го советского танкового корпуса. Николаева и Ольховика расстреляли отдельно, а Буняченко был включен в группу офицеров и генералов, которые шли по делу Власова — его повесили вместе с главнокомандующим РОА. При этом есть основания предполагать, что именно к Буняченко применялись пытки на следствии: время допроса, судя по записи в протоколе, заняло 6 — 7 часов. Сергей Кузьмич был человеком принципиальным, грубым, хамоватым, но коллективизация произвела на него очень страшное впечатление. Вообще, стоит отметить, что это была главная причина, по которой Власовское движение возникло.
.jpg)
Генерал Власов инспектирует солдат РОА, 1944 год
Несколько слов скажем про авиацию власовский армии. Известно, что среди «соколов» генерала было три Героя Советского Союза: Бронислав Романович Антилевский, Семен Трофимович Бычков и Иван Иванович Тенников, биография которого наименее изучена.
Кадровый летчик, татарин по национальности, Тенников, выполняя боевое задание по прикрытию Сталинграда 15 сентября 1942 года над островом Зайковский, вел бой с истребителями противника, таранил немецкий «Мессершмитг-110», сбил его и остался в живых. Есть версия, что ему за этот подвиг было присвоено звание Героя Советского Союза, но его фамилии нет в перечне лиц, которые были лишены этого звания. В советской авиации Тенников служил до осени 1943 года, когда был сбит и считался пропавшим без вести. Будучи в лагере военнопленных, он поступил на службу в органы немецкой разведки и затем был переведен во власовскую армию. По состоянию здоровья он не мог летать и служил как офицер-пропагандист. О дальнейшей судьбе Тенникова после апреля 1945 года ничего не известно. По документам Главного управления кадров Министерства обороны он до сих пор числится пропавшим без вести.
Служили у Власова и летчики-белоэмигранты: Сергей Константинович Шабалин — один из лучших авиаторов Первой мировой войны, Леонид Иванович Байдак, положивший в июне 1920 года начало разгрому 1-го конного корпуса Дмитрия Жлоба, Михаил Васильевич Тарновский — сын известного русского оружейника, полковника Русской армии, героя Русско-японской войны Василия Тарновского. В 13-летнем возрасте Михаил вместе с семьей покинул родину. Жил сначала во Франции, потом в Чехословакии, закончил там летную школу, став профессиональным летчиком. В 1941 году Тарновский поступил на службу в органы германской пропаганды. Являлся диктором и редактором ряда передач радиостанции «Винета», разрабатывал сценарии и вел радиопередачи антисталинского и антисоветского характера. Весной 1943 года, в мае, подал заявление о вступлении в РОА. Служил под Псковом в Гвардейском ударном батальоне, а потом перевелся в части ВВС, где командовал учебной эскадрильей.
Почему мы заостряем внимание на Тарновском? Дело в том, что, сдаваясь американцам, он, как подданный Чехословацкой Республики, выдаче в советскую оккупационную зону не подлежал. Однако Тарковский изъявил желание разделить участь своих подчиненных и последовать с ними в советскую зону. Военным трибуналом 26 декабря он был осужден к расстрелу. Расстрелян 18 января 1946 года в Потсдаме. В 1999 году был реабилитирован прокуратурой Санкт-Петербурга.
Третьим Героем Советского Союза в РОА был летчик Иван Тенников
И напоследок несколько слов относительно идеологической составляющей Власовского движения. Кратко изложим тезисы — выводы делайте сами. Вопреки очень распространенным стереотипам и мифам, большая часть власовских офицеров начала сотрудничать с противником после Сталинграда, то есть в 1943 году, а некоторые вступили в армию генерала в 1944 и даже в 1945 годах. Одним словом, жизненные риски человека, если он записывался в РОА после 1943 года, не снижались, а возрастали: положение в лагерях настолько изменилось по сравнению с первыми месяцами войны, что вступать во власовскую армию в эти годы мог только самоубийца.
Известно, что у Власова были совершенно разные люди не только по воинским чинам, но и по политическим взглядам. Поэтому, если во время такой страшной войны происходит такая массовая измена пленных генералов и офицеров своему собственному государству, присяге, все-таки нужно искать социальные причины. В Первую мировую войну в плену у противника были тысячи офицеров Русской армии, но ничего подобного, ни одного офицера-перебежчика (кроме прапорщика Ермоленко) даже близко не было. Не говоря уже о ситуации XIX века.
Что касается суда над генералом Власовым и другими руководителями РОА, то сначала руководство СССР планировало провести публичный процесс в Октябрьском зале Дома Союзов. Однако впоследствии от этого намерения отказалось. Возможно, причиной стало то, что часть обвиняемых могла высказать на суде взгляды, которые объективно могли совпасть с настроениями определенной части населения, недовольной советской властью.
23 июля 1946 года Политбюро ЦК ВКП (б) вынесло решение о смертном приговоре. 1 августа генерал Власов и его последователи были повешены.
 Молитва св анне матери богородицы
Молитва св анне матери богородицы Бог Хапи. Египетская мифология. Так же Хапи считала покровительством отцовства и воспитателем богов Имя божества реки нил в древнеегипетской мифологии
Бог Хапи. Египетская мифология. Так же Хапи считала покровительством отцовства и воспитателем богов Имя божества реки нил в древнеегипетской мифологии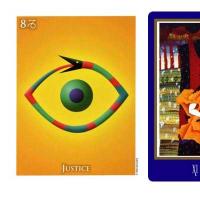 Значение карты Таро ― Справедливость (Правосудие)
Значение карты Таро ― Справедливость (Правосудие) «Пять уровней лидерства»: ключевые идеи бестселлера Джона Максвелла Менеджер и лидер: общее и разное
«Пять уровней лидерства»: ключевые идеи бестселлера Джона Максвелла Менеджер и лидер: общее и разное Что ждет стрельцов в году
Что ждет стрельцов в году Что делать, если не везет в жизни: привлекаем удачу и избавляемся от проблем Если всю жизнь не везет в торговле
Что делать, если не везет в жизни: привлекаем удачу и избавляемся от проблем Если всю жизнь не везет в торговле Старооскольская городская общественно-политическая газета
Старооскольская городская общественно-политическая газета