Генерал покровский история забытого вождя белого движения. Литературно-исторические заметки юного техника. В скитаниях по Европе
В сентябре-октябре 1918 года после занятия города Майкопа 1-ой Кубанской дивизией генерала Покровского в городе и предместьях было самыми страшными методами казнено, повешено и просто вырезано почти 4 000 жителей , которые, так или иначе, были под подозрением в сотрудничестве с Советской властью. Вырезали даже тех, кто просто работал на национализированных большевиками предприятиях города. Кровавая расправа над майкопцами длилась почти полтора месяца без перерыва .
 Всё началось с такого вот приказа озверевшего от собственной безнаказанности белого «героя», генерал-майора Покровского.
Всё началось с такого вот приказа озверевшего от собственной безнаказанности белого «героя», генерал-майора Покровского.
«За то, что население города Майкопа (Николаевская, Покровская и Троицкая слободки) стреляло по добровольческим войскам, налагаю на вышеупомянутые окраины города контрибуцию в размере одного миллиона рублей.
Контрибуция должна быть выплачена в трехдневный срок.
В случае невыполнения моего требования вышеупомянутые слободки будут сожжены дотла. Сбор контрибуции возлагаю на коменданта города есаула Раздерищина.
Начальник 1-й Кубанской казачьей дивизии генерал-майор Покровский.»
Местный монах Илидор свидетельствовал:
«Утром, 21 сентября, в Майкопе я увидел около вокзала, со стороны полей, массу изрубленных трупов. После мне объяснили, что ночью было зарублено 1,600 большевиков, захваченных в городском саду и сдавшихся в плен. На виселицах я видел 26 человек.
Я видел далее, как с дубильной фабрики вели 33 юношей; вели из-за того, что они работали на национализированной фабрике. Все шли босые, в одном белье. Шли в ряд связанные за руки друг с другом. Офицеры и казаки шли сзади и хлестали их плетями. Трех юношей повесили; остальных ждала ужасная процедура. Тридцать связали по два и поставили на колени. Одному из пары приказывали откинуть голову назад, другому наклонить голову вперед.
Когда юноша делали это, шашками рубили шеи и лица, приговаривая:
Держи голову ниже! Задери морду выше!
При каждом удара толпа колыхалась от ужаса, и нёсся отрывистый стон. Когда все пары были изрублены, толпу разогнали плетями».

Агентурное донесение в Особое отделение контрразведки Отдела Генерального штаба при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга России. Ноябрь 1918 года:
«Основанием для наложения на жителей окраин г. Майкопа контрибуции и жестокой с ними расправы для ген. Покровского послужили слухи о стрельбе жителей по отступающим войскам генерала Геймана 20 сентября при обратном взятии большевиками г.Майкопа.
По обследовании этого вопроса выяснено, что последним из города от дубильного завода (Николаевский район) отступил четвертый взвод офицерской роты, ведя непосредственную перестрелку с цепями наступавшего с восточной части города противника. Таким образом, в этом случае является весьма трудным установить прямое участие жителей Николаевского района в стрельбе по войскам генерала Геймана. Покровский район настолько удален от пути отступления войск, что физически по своему местоположению не мог принять участие в обстреле войск, не исключая, конечно, возможность случаев единичной стрельбы во время начала наступления на улицах города.
Со стороны Троицкого края, вернее, так называемого «Низа», с островов реки и берегов установлены случаи стрельбы по переходящим через реку бегущим жителям г. Майкопа, но убитых и раненых не было. Это до некоторой степени указывает что стрельба не была интенсивной и носила случайный характер.
Перед уходом большевиков из Майкопа окраины неоднократно подвергались повальным (Афипским полком Воронова), единичным (Ейский полк Абрамова) обыскам. Обыскивались окраины и по занятии Майкопа отрядом генерала Геймана. Все это указывает на то, что население окраин, как таковое, не могло иметь оружия, и таковое могло находиться лишь у отдельных лиц. Кроме того, и большевиками, и генералом Гейманом предлагалось населению сдать имеющееся оружие, каковое и было снесено в значительном количестве.
Между тем при занятии гор. Майкопа в первые дни непосредственно по занятии было вырублено 2 500 майкопских обывателей, каковую цифру назвал сам генерал Покровский на публичном обеде.
Подлежащие казни выстраивались на коленях, казаки, проходя по шеренге, рубили шашками головы и шеи. Указывают многие случаи казни лиц, совершенно непричастных к большевистскому движению. Не помогало в некоторых случаях даже удостоверение и ходатайство учреждения. Так, например, ходатайство учительского совета технического училища за одного рабочего и учительского института за студента Сивоконя.
Между тем рядовое казачество беспощадно грабило население окраин, забирая все, что только могло. Прилагаемый список взятого казаками в садах (смотри показания Божкова) и копия жалобы атаману области редактора газеты Рогачева в достаточной степени указывают на характер «обысков», чинимых казаками дивизии ген. Покровского.
Ужасней всего то, что обыски сопровождались поголовным насилием женщин и девушек. Не щадили даже старух. Насилия сопровождались издевательствами и побоями. Наудачу опрошенные жители, живущие в конце Гоголевской улицы, приблизительно два квартала по улице, показали об изнасиловании 17 лиц, из них девушек, одна старуха и одна беременная (показания Езерской).
Насилия производились обыкновенно «коллективно» по нескольку человек одну. Двое держат за ноги, а остальные пользуются. Опросом лиц, живущих на Полевой улице, массовый характер насилия подтверждается. Число жертв считают в городе сотнями.
Любопытно отметить, что казаки, учиняя грабежи и насилия, были убеждены в своей правоте и безнаказанности и говорили, что «им все позволено».

Из воспоминаний эмигранта. Н. В. Воронович. Меж двух огней // Архив русской революции. Т. 7. – Берлин, 1922 г.:
«Прибежавший в Сочи крестьянин села Измайловка Волченко рассказывал ещё более кошмарные сцены, разыгравшиеся у него на глазах при занятии Майкопа отрядом генерала Покровского.
Покровский приказал казнить всех не успевших бежать из Майкопа членов местного совета и остальных пленных. Для устрашения населения казнь была публичной. Сначала предполагалось повесить всех приговоренных к смерти, но потом оказалось, что виселиц не хватит. Тогда пировавшие всю ночь и изрядно подвыпившие казаки обратились к генералу с просьбой разрешить им рубить головы осужденным. Генерал разрешил. На базаре около виселиц, на которых болтались казненные уже большевики, поставили несколько деревянных плах, и охмелевшие от вина и крови казаки начали топорами и шашками рубить головы рабочим и красноармейцам. Очень немногих приканчивали сразу, большинство же казнимых после первого удара шашки вскакивали с зияющими ранами на голове, их снова валили на плаху и вторично принимались дорубливать…
Волченко, молодой 25-летний парень, стал совершенно седым от пережитого в Майкопе.»
 Памятник жертвам майкопской резни
Памятник жертвам майкопской резни
Из воспоминаний белого генерала, начальника штаба 1-го армейского Добровольческого корпуса Е.И.Доставалова:
«Путь таких генералов, как Врангель, Кутепов, Покровский, усеян повешенными и расстрелянными без всякого основания и суда… Однако по общему признанию в армии наибольшей кровожадностью отличался генерал Покровский».
Это лишь один пример одного небольшого города, захваченного «их благородиями» во время Гражданской войны.
Гражданская война была насыщена жестокостями с обеих сторон, на то она и гражданская война. Однако белые почему-то всё-таки её проиграли. Почему? Спросите об этом у генерала Покровского.
О Покровском от его сослуживца:
«Покровский двинул пластунов обеих бригад на Невинномысскую и овладел ею. Оттуда я произвел внезапный налет на Темнолесскую и взял ее. При этом был пленен эскадрон красных и взяты кое-какие трофеи. Приехавший вскоре генерал Покровский распорядился повесить всех пленных и даже перебежчиков. У меня произошло с ним по этому поводу столкновение, но он лишь отшучивался и смеялся в ответ на мои нарекания. Однажды, когда мы с ним завтракали, он внезапно открыл дверь во двор, где уже болтались на веревках несколько повешенных.- Это для улучшения аппетита, - сказал он.
Покровский не скупился на остроты вроде: «природа любит человека», «вид повешенного оживляет ландшафт» и т.п. Эта его бесчеловечность, особенно применяемая бессудно, была мне отвратительна. Его любимец, мерзавец и прохвост есаул Раздеришин, старался в амплуа палача угодить кровожадным инстинктам своего начальника и развращал казаков, привыкших в конце концов не ставить ни в грош человеческую жизнь. Это отнюдь не прошло бесследно и явилось впоследствии одной из причин неудачи Белого движения».
Шкуро А.Г. «Записки белого партизана».
ПЯТЬ ВОПРОСОВ ОБ ИЮНЕ 1941 Г.
Как говорил Козьма Прутков, невозможно объять необъятное. Особенно в море информации. Поэтому помощь "со стороны" в этом деле никогда не окажется лишней. Вот и в ноябре 2010 г. мне Олег Козинкин с сайта "Великая оболганная война" сообщил, что в ВИЖ в 1989 г. были опубликованы ответы генералов, в июне 1941 г. встретивших войну у западной границы СССР. Вопросов было пять. Задавал их начальник военно-научного управления Генерального штаба Вооруженных Сил СССР генерал-полковник А. П. Покровский .
Из его биографии:
Александр Петрович Покровский (1898 – 1979), родился 21.10.1898 года в Тамбове. В 17-летнем возрасте был призван в Русскую армию, окончил школу прапорщиков, служил в запасных частях и в Новокиевском пехотном полку на Западном фронте. В 1918 году вступил в Красную армию. В годы Гражданской войны командовал ротой, батальоном и полком. В 1926 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, в 1932-м – оперативный факультет этой академии, а в 1939-м – Академию Генштаба РККА. В перерывах между учебой служил в штабах дивизий и военных округов. В 1935 году возглавил штаб 5-го стрелкового корпуса, в 1938 г. стал заместителем начальника штаба Московского ВО, с октября 1940 года – адъютант, затем генерал-адъютант заместителя наркома обороны СССР маршала Буденного.
В Великую Отечественную войну: начальник штаба главного командования Юго-Западного направления (при Буденном: 10 июля - сентябрь 1941 года)). После снятия Буденного и прихода туда Тимошенко его назначили на Северо-Западный фронт начальником штаба 60-й (с дек. 1941 – 3-й ударной) армии (октябрь-декабрь 1941 г), которой командовал Пуркаев. А оттуда он был переведен в штаб Западного фронта, на котором (впоследствии - на Третьем Белорусском), работал всю войну. Сначала в роли начальника оперативного управления, потом некоторое время в должности начальника штаба 33-й армии, а затем снова в оперативном управлении и заместителем начальника штаба фронта у Соколовского. А затем (после снятия Конева, когда Соколовский стал командующим фронтом), он стал начальником штаба фронта и на этой должности уже оставался с зимы 43-го года до конца войны.
После войны начальник штаба военного округа, с 1946 года начальник Главного военно-научного управления – помощник начальника Генерального штаба, в 1946 – 1961 заместитель начальника Генштаба.
В штабе 3-го Белорусского фронта.
Слева направо: начальник штаба генерал-полковник
А. П. Покровский,
командующий фронтом генерал армии И. Д.
Черняховский,
член Военного совета генерал-лейтенант В. Е.
Макаров
сайт:
"Великая Отечественная война. Фотографии".
Причем, задавал свои вопросы генерал Покровский задолго до 1989 г. – лет за 40. И ответы получал тогда же. Однако, опубликовать их решились лишь на "излете" СССР. И то, подозревают, не все. Но потребовалось еще 20 лет, пока их стали активно обсуждать в Интернете. В частности, на сайте "Великая оболганная война". На нем выложили сами вопросы-ответы (http://liewar.ru/content/view/186/2/), а также комментарий, написанный Олегом Козинкиным (http://liewar.ru/content/view/182/3) – так сказать, попытка осмысления и обобщения. Но попытка с явным уклоном в определенную сторону – найти доказательства, что высшее советское руководство накануне войны действовало правильно. А разгром лета 1941 произошел из-за измены некоторых высших генералов в штабах западных округов. Хотя, и не без "помощи" генералов-маршалов из Генштаба. Причем, эту гипотезу некоторые любители истории активно пытаются распространить как можно шире. Заметим: не профессиональные историки, а любители. Профессионалы молчат. Это понятно – серьезная наука должна опираться на серьезные документы. Но "план обороны" или "нападения", подписанный лично Сталиным, еще не найден. А опубликованные некоторые фрагменты допускают разные толкования. Вот один из вариантов и возник ("измены"). С попыткой его обосновать теми самыми "ответами" на "5 вопросов".
Действительно, разве не могли исполнители на местах какие-то команды понять "неправильно"? Могли. А что-то мешало им сговориться в каком-то определенном направлении? Вон сейчас как действуют бухгалтера, столкнувшись с непонятной ситуацией? В том числе звонят другому бухгалтеру за консультацией. И достаточно первому указать неверный путь, как "дело сделано" (не туда).
Вот и в теме "разгрома лета 1941 г." сам факт существования "вопросов Покровского" из Генштаба как бы показывает, что Генштаб приказы издавал правильные, но возникли сомнения, насколько вовремя они доходили до исполнителей и правильно ли они выполнялись. С одной стороны тема как бы имеет смысл. Но с другой ситуация выглядит странно.
Чтобы узнать, какие и когда приказы издавал Генштаб, достаточно один раз сходить в архив и сделать там их копии. А не рассылать письма и ждать ответы (причем, на протяжении нескольких лет). А насколько вовремя получались и правильно ли те приказы выполнялись, выяснять надо было во время их выполнения. Если приказ получен вовремя и выполнен правильно – исполнитель заслуживает благодарность и орден на китель. А если приказ не получен; или получен, но не выполнен; или получен, но выполнен неправильно (или не полностью), что привело к потерям определенной степени тяжести, то искать виновных через 10 лет уже нет смысла. Если виновного не нашли и не наказали по "горячим следам", то какая уже разница?
Поэтому смысл возможен не только в ответах, но и в самом факте возникновения "5 вопросов", которые имели следующий вид:
1. Был ли доведен до войск в части, их касающейся, план обороны государственной границы; когда и что было сделано командованием и штабами по обеспечению выполнения этого плана?
2. С какого времени и на основании какого распоряжения войска прикрытия начали выход на государственную границу и какое количество из них было развернуто до начала боевых действий?
3. Когда было получено распоряжение о приведении войск в боевую готовность в связи с ожидавшимся нападением фашистской Германии с утра 22 июня…?
4. Почему большая часть артиллерии находилась в учебных центрах?
5. Насколько штабы были готовы к управлению войсками и в какой степени это отразилось на ходе ведения операций первых дней войны?
И сразу можно сказать, что вопросы странные.
Скажем, первый. Во-первых, "план обороны" не может существовать в одном документе. Их должно быть много. А то, что они относятся к "плану обороны", должны были знать лишь немного людей в высшем военно-политическом руководстве страны и среди высшего руководства военных округов. Все остальные генералы и офицеры получают конкретные приказы. А относятся ли они к "плану обороны" или нет, – исполнители знать не обязаны. На то и существует "военная тайна". Прикажут командиру Н-ского полка или дивизии подготовить оборону на таком-то участке – вот пусть и готовит в соответствии со всеми требованиями военной науки, которые он успел изучить и усвоить ранее. А возник ли этот приказ в связи с обстановкой или по какому-то старому плану – пусть разбираются в Генштабе. И разве такой приказ обязан иметь ссылку на более общий "план"?
Во-вторых, что значит "доведен до войск в части, их касающейся "? До каких "войск"? Надо полагать – до штабов? Каких? Полков, дивизий, корпусов, армий, военных округов? Или до командиров батальонов, рот и взводов? Серьезные военные планы стратегического уровня имеют гриф секретности. Причем, не просто "секретно", а скорее всего: "совершенно секретно". Да еще и "особой важности". Но любой секретный документ пересылается не "просто так" (обычной почтой), а по определенным правилам конкретной "инструкции". С тщательным учетом каждого бумажного экземпляра и куда и когда он был отправлен. Более того, нельзя открыто озвучивать названия секретных документов.
В этих условиях серьезный ответ можно получить только на конкретный вопрос. Например, такой: "– Получали ли вы такой-то секретный документ (название) номер такой-то от такого-то числа?". Но реально любой исполнитель на него только плечами пожмет: дескать, а кто вы такой, чтобы задавать такие вопросы? (У вас допуск есть?) Во-вторых, если документ секретный, то пойдите-ка в секретную часть той конторы, где этот документ сочинялся, и посмотрите сопроводительный лист, где указано, сколько его экземпляров было издано и кому был отправлен каждый. А я при чем?
Поэтому обзывать набор малоизвестных секретных документов каким-то обобщенным названием чревато тем, что его состав разные люди будут понимать по-разному. Или уже должно существовать единообразное описание этого общего названия, чтобы все понимали его одинаково. Но такое возможно лишь при условии, если составляющие документы уже рассекречены и известны отвечающим. При этом они должны быть известны и сейчас – спустя 40 лет. Но если учесть, что понятие "план обороны 1941 г." (и как его часть "план обороны гос. границы") не известен до сих пор в полном виде, то вряд ли отвечающие понимали его однообразно.
И вообще, что значит "план обороны государственной границы "? Имеется ли в виду ныне рассекреченные "Планы прикрытия границы при проведении мобилизации... " (для каждого из западных военных округов)? Или были еще какие-то "планы обороны"? Тогда почему нельзя было составить первый вопрос более конкретно? (С упоминанием "планов прикрытия")? А отсюда может возникнуть и предположение, что генерал Покровский ничего о них не знал (что странно – не мог сходить в архив своего же Генштаба?). Или знал, но по какой-то причине не захотел их упоминать. По какой?
Кстати, сейчас обнаруживается, что те планы "прикрытия" вплоть до 22 июня 1941 г. находились в стадии разработки. Воинские части куда-то для чего-то перемещались, где-то почему-то дислоцировались. Но полностью ли в соответствии с неким еще не утвержденным "планом прикрытия" или тот план "подгонялся" под реальную дислокацию по каким-то другим планам – не известно. Как сейчас выясняется, "планы прикрытия" к 22.06.1941 не были утверждены и не было конкретного приказа о начале их выполнения.
Если речь идет о планах "прикрытия", то вразумительные ответы можно было бы получить от бывших начальников бывших штабов округов. В остальных штабах "войск" могли знать лишь об отдельных приказах. А были ли они частью плана "обороны" – а кто его знает? Может и были. Но оказались ли они правильными в связи с вражеским нападением – это другая тема.
Поэтому сразу можно заметить, что на некорректно поставленный вопрос ответы должны оказаться в разной степени "расплывчатыми" ("– А что, был план обороны?", "– Какой план обороны?", "– Да, какие-то приказы мы получали", "– По плану прикрытия? Что-то делалось" и т.д.).
Второй вопрос тоже выглядит странным. Так как в нем использован термин "войска прикрытия", то может возникнуть подозрение, что генерал Покровский что-то слышал о "планах прикрытия". Но почему он не упомянул их в первом вопросе? Но если были такие планы (под которые формировались те "войска"), то наверное, надо было озвучить цитаты из планов, где шла речь о выходах к границе. Кроме того, "развертывание" вообще-то связано с объявлением мобилизации или в стране, или в отдельных местностях. А это уже прерогатива "центра", а не "войск на местах".
Третий вопрос странен не менее первых двух. Если "план обороны" действительно существовал и вовремя начал выполняться, то к 1950 г. это было бы давно известно и его изучали бы во всех учебных заведениях, начиная со школы. А коль он задан, то это означает, что вовремя привести войска в боевую готовность почему-то не успели. А следом возникает и другое предположение, что "план обороны" был каким-то неправильным.
Четвертый вопрос странен еще больше. Если "план обороны" существовал и вовремя начал выполняться, то к чему вопросы по дислокации, которые являются компетенцией "центра"? А где должна еще находиться артиллерия?
Пятый вопрос в какой-то мере смысл имеет, но сразу можно предположить, что если перед нападением 22.06.1941 "план обороны" выполнялся неправильно, то какая уже разница, насколько полностью штабы были готовы к управлению войсками?
* * *
Если начать вчитываться в ответы генералов, то можно заметить, что на первый вопрос все они отвечают одинаково – что серьезного "Плана обороны" не было. Соответственно, "обеспечивать выполнение" в таком случае оказалось нечего. Какие-то приказы поступали, но действительно ли в рамках выполняющегося "плана обороны" или по каким-то еще соображениям – отвечающим неизвестно. Например, об этом написал открытым текстом генерал-лейтенант П.П. Собенников, бывший командующий 8-й армии ПрибОВО, (ВИЖ № 3, 1989):
"Командующим я был назначен в марте 1941-го. Должность обязывала меня прежде всего ознакомиться с планом обороны государственной границы с целью уяснения места и роли армии в общем плане. Но к сожалению, ни в Генеральном штабе, ни по прибытии в Ригу в штаб ПрибОВО я не был информирован о наличии такого плана. В документах штаба армии, который располагался в г. Елгава, я также не нашел никаких указаний по этому вопросу.
У меня складывается впечатление, что вряд ли в то время (март 1941 г.) такой план существовал. Лишь 28 мая 1941 года я был вызван с начальником штаба генерал-майором Г.А. Ларионовым и членом военного совета дивизионным комиссаром С.И. Шабаловым в штаб округа, где командующий войсками генерал-полковник Ф.И. Кузнецов наспех ознакомил нас с планом обороны. Здесь же в этот день я встретил командующих 11-й и 27-й армиями генерал-лейтенанта В.И. Морозова и генерал-майора Н.Э. Берзарина, а также начальников штабов и членов военных советов этих армий.
Командующий войсками округа принимал нас отдельно и, видимо, давал аналогичные указания – срочно ознакомиться с планом обороны, принять и доложить ему решение.
Все это происходило в большой спешке и несколько нервной обстановке. План был получен для ознакомления и изучения начальником штаба. Он представил собой довольно объемистую, толстую тетрадь, напечатанную на машинке.
Примерно через 1,5-2 часа после получения плана, не успев ещё с ним ознакомиться, я был вызван к генерал-полковнику Ф.И. Кузнецову, который принял меня в затемненной комнате и с глазу на глаз продиктовал мое решение….
В похожем на мое положении находился и командующий 11-й армией, который был принят генерал-полковником Кузнецовым первым.
Мои записи, а также начальника штаба были отобраны. Мы получили приказание убыть к месту службы. При этом нам обещали, что указания по составлению плана обороны и наши рабочие тетради будут немедленно высланы в штаб армии. К сожалению никаких распоряжений и даже своих рабочих тетрадей мы не получили.
Таким образом, план обороны до войск не доводился. Однако соединения, стоящие на границе (10-я, 125-я, а с весны 1941 г. и 90-я стрелковые дивизии), занимались подготовкой полевых укреплений на границе в районах строившихся укрепленных районов (Тельшайского и Шяуляйского), были практически ориентированы о своих задачах и участках обороны. Возможные варианты действий проигрывались во время полевых поездок (апрель-май 1941 г.), а также на занятиях с войсками.
(Дата составления документа отсутствует.)"
Интересное признание!
Генерал П.П. Собенников открытым текстом сообщает, что плана обороны не было. Но был какой-то другой план, который держался в большом секрете. И вполне логично, что его посвятили в какую-то малую часть того плана в конце мая 1941 г. Известно, что 24 мая Сталин провел совещание в Кремле с командующими западных округов. И вполне логично, что на нем должны были обсуждать военные планы на ближайшее время. Пока командующие вернулись к себе в округа, пока сочинили соответствующие документы, пока вызвали своих командиров – вот 28 мая и наступило.
Еще пример ответа:
"Генерал-лейтенант И.П. Шлемин (бывший начальник штаба 11-й армии). Такого документа, где бы были изложены задачи 11-й армии, не видел. Весной 1941 года в штабе округа была оперативная игра, где каждый из участников выполнял обязанности согласно занимаемой должности. Думается, что на этом занятии изучались основные вопросы плана обороны госграницы. После чего с командирами дивизий и их штабами (5, 33. 28 сд) на местности изучались оборонительные рубежи. Основные требования и их подготовка были доведены до войск. Со штабами дивизий и полков была проведена рекогносцировка местности с целью выбора рубежей обороны и их оборудования. Думается, что эти решения доводились до подчиненных командиров и штабов. Они и подготовили своими силами и средствами оборону.
Бывший начштаб 11-й выразился более дипломатично – "думается, вопросы изучались", "думается, что эти решения доводились…". А если его намеки уточнить, то вывод получается следующий: не было нормального плана обороны! Никто его не видел! Лишь "что-то обсуждалось" и изучались какие-то "рубежи". Возможно, что и обороны. А возможно и как исходный район для наступления.
Еще пример ответа:
"Генерал-лейтенант М.С. Шумилов (бывший командир 11-го стрелкового корпуса 8-й армии). План обороны государственной границы до штаба и меня не был доведен. Корпусу планировалось выполнение отдельных задач по полевому заполнению в новом строящемся укрепленном районе и в полосе предполагаемого предполья. Эти работы к началу войны не были полностью закончены, поэтому, видимо, было принято решение корпусу занять оборону по восточному берегу реки Юра, т.е. на линии строящегося укрепленного района, а в окопах предполья приказывалось оставить только по роте от полка.
(Дата составления отсутствует)".
А бывший командир 28-го стрелкового корпуса 4-й армии ЗапОВО генерал Попов ответил коротко:
"План обороны государственной границы до меня, как командира 28-го стрелкового корпуса, доведен не был.
И т.д. (аналогично).
Итак, в войсках до 22.06.1941 о "плане обороны" или не знали ничего, или успели получить какие-то намеки (и то, на уровне командования армиями). Соответственно, они и не смогли что-либо сделать конкретного по обеспечению его выполнения. Если неизвестно, что выполнять, то как можно его обеспечить?
Но какие-то приказы поступали и какие-то мероприятия проводились, по которым генералы в войсках догадывались, что скоро могут начаться боевые действия. Пример:
"Полковник А.С. Кислицын (бывший начальник штаба 22-й танковой дивизии 14-го механизированного корпуса). Примерно в марте – апреле 1941 года командир дивизии, я, начальник оперативного отделения и связи были вызваны в штаб 4-й армии (г. Кобрин).
В течении 2-3 суток мы разработали план поднятия дивизии по боевой тревоге, в который вошли и такие документы, как приказ на марш в район сосредоточения, схемы радио- и телефонной связи, инструкция дежурному по дивизии на случай боевой тревоги. Усиление дивизии не планировалось.
Было категорически запрещено ознакамливать с содержанием разработанных документов даже командиров полков и дивизионных частей. Кроме того, оборудование наблюдательных и командных пунктов в районе сосредоточения соединения производить не разрешалось, хотя этот вопрос поднимался связистами.
Или ответ бывшего начальника штаба 10-й армии ЗапОВО генерал-лейтенанта П.И. Ляпина:
"План обороны госграницы 1941 года мы неоднократно переделывали с января до самого начала войны, да так и не закончили. Последнее изменение оперативной директивы округа было получено мной 14 мая в Минске. В нем приказывалось к 20 мая закончить разработку плана и представить на утверждение в штаб ЗапОВО. 20 мая я донес: "План готов, требуется утверждение командующим войсками округа для того, чтобы приступить к разработке исполнительных документов". Но вызова так и не дождались до начала войны. Кроме того, последний доклад мая (показывает что) в армии проводилось много учебных мероприятий, таких, как полевые поездки, методические сборы комсостава и т.п. Поэтому никто не мог взяться за отработку исполнительных документов по плану обороны госграницы. К тому же мой заместитель по тылу в начале июня привез новую директиву по материальному обеспечению, что требовало значительной переработки всего плана. …"
"...Наличие этих документов вполне обеспечивало выполнение соединениями поставленных задач. Однако все распоряжения штаба ЗапОВО были направлены на то, чтобы создать благодушную обстановку в умах подчиненных. "Волынка" с утверждением разработанного нами плана обороны госграницы, с одной стороны, явная подготовка противника к решительным действиям, о чем мы были подробно осведомлены через разведорганы, – с другой, совершенно дезориентировали нас и настраивали на то, чтобы не придавать серьезного значения складывающейся обстановке.
(Дата составления документа отсутствует)"
Вот еще одно подтверждение того, что подготовкой обороны советский генштаб не занимался. И наркомат обороны тоже. Вместе с политическими Главковерхами. Не интересовала их эта задача. "В упор не видели".
Хотя, есть показания двух генералов, которые вроде бы явно подтвердили, что "план обороны" якобы имелся и был "доведен до войск" – об этом написал бывший начштаба Киевского ОВО генерал Пуркаев и его бывший подчиненный маршал Баграмян.
"Генерал армии М.А. Пуркаев (бывший начальник штаба Киевского особого военного округа). План обороны государственной границы был доведен до войск. Разработка его велась в апреле начальником штаба округа, оперативным отделом и командующими армиями и оперативными группами их штабов. В первой десятидневке мая армейские планы были утверждены военным советом округа и переданы в штабы армий. Планы армий по распорядительным документам были разработаны до соединений.
С документами соединений в штабах армий были ознакомлены их командиры и начальники штабов, после чего они примерно до 1 июня были переданы на хранение в опечатанных пакетах начальникам штабов.
Во всех частях и штабах соединений имелись планы подъема по тревоге. План обороны государственной границы должен был приводиться в действие по телеграмме военного совета округа (за тремя подписями) в адрес командующих армиями и командира кавалерийского корпуса (командир 5-го кавалерийского корпуса генерал-майор Ф.М. Камков В.К.). в соединениях и частях план действия должен был проводиться по условным телеграммам военных советов армий и командира кавалерийского корпуса с объявлением тревоги.
Извините, а что должен был ответить чиновник, ответственный за разработку планов?
Что он ими и не занимался?
Самому на себя написать "докладную"?
Вот он и написал, что какие-то планы ("обороны границы") "естественно" были разработаны для частей, расположенных там же по приказам из Генштаба. Но до начала войны они так и не начались выполняться. Кроме того, были разработаны планы подъема по тревоге (обязанность для ЛЮБОЙ части вне зависимости от дальнейших планов). Но соответствовала ли предвоенная дислокация тех частей конкретно задаче обороны от конкретного нападения германского вермахта – об этом генерал Пуркаев ничего не написал.
А вот и результат такого планирования:
"Генерал-майор Г.И. Шерстюк (бывший командир 45-й стрелковой дивизии 15-го стрелкового корпуса). План обороны госграницы со стороны штабов 15-го стрелкового корпуса и 5-й армии до меня, как командира 45-й стрелковой дивизии, никем и никогда не доводился, и боевые действия дивизии (я) развертывал по ориентировочному плану, разработанному мной и начальником штаба полковником Чумаковым и доведенному до командиров частей, батальонов и дивизионов.
Не было плана обороны! Не было! – Опять и опять! Если что-то было, то нечто по какой-то другой теме.
"Генерал-майор С.Ф. Горохов (бывший начальник штаба 99-й стрелковой дивизии 8-го стрелкового корпуса 26-й армии). План обороны государственной границы был получен в феврале-марте 1941 года в штабе 26-й армии в опечатанном конверте и с нами проработан не был. Но ещё до его вручения командующий армией генерал-лейтенант Ф.Я. Костенко лично мне и командиру дивизии полковнику Н.И. Дементьеву сообщил разграничительные линии участка обороны соединения и полков, место командных и наблюдательных пунктов, огневые позиции артиллерии. Помимо этого, особым приказом дивизии предписывалось подготовить предполья Перемышльского укрепленного района и отрыть окопы в своей полосе.
Штабами дивизии и пограничного отряда был разработан план прикрытия государственной границы по двум вариантам – на случай диверсий и возможной войны.
Вот и еще одно подтверждение, что план обороны конкретно не обсуждался. Но какие-то планы о чём-то существовали "в запечатанном виде".
Маршал Рокоссовский в своем ответе написал, что пока он служил в начале 30-х в Забайкалье, то там "Имелся четко разработанный план прикрытия и развертывания главных сил" и "он менялся в соответствии с переменами в общей обстановке на данном театре". И далее он тактично пишет, что как раз "В Киевском Особом военном округе этого, на мой взгляд, недоставало". А в "восстановленных" частях его воспоминаний об этом говорится уже более откровенно: "Во всяком случае, если какой-то план и имелся, то он явно не соответствовал сложившейся к началу войны обстановке, что и повлекло за собой тяжелое поражение наших войск в начальный период войны".
Не было плана обороны! Не было! Не было! – Хором объясняют генералы и полковники, служившие в западных ОВО к 22 июня 1941 г.
А если что-то и было, но оно подготовки конкретно обороны активно и серьезно не касалось.
* * *
Второй вопрос Покровского:
2. С какого времени и на основании какого распоряжения войска прикрытия начали выход на государственную границу и какое количество из них было развернуто до начала боевых действий?
Итак, "планов обороны" не было. Были какие-то "планы обороны госграницы". И то, в основном в стадии разработки. Кроме того, выполнялись какие-то мероприятия в рамках боевой учебы. И поступали какие-то распоряжения к выдвижению войск поближе к западной границе. В соответствии с каким планом – толком неизвестно. Возможно, что и на "рубежи обороны". Но, например, теория ММВ требует создания оборонительных опорных пунктов в глубине своей территории на направлениях возможных ударов противника. На дальностях под 100 км с тем, чтобы успеть сманеврировать резервами. А для этого генштаб должен их заранее спрогнозировать на основе развединформации. В рамках более общего "плана обороны". И важно не только составить его "на всякий случай", а в условиях угрозы (как было весной 1941 г. и в начале лета 1941 г.) начать его выполнять фактически. Но для этого нужен приказ наркома (как минимум).
Однако (как выше выяснилось), он до сих пор не найден. Хотя какие-то планы были и они, видимо, начали выполняться. В т.ч. некоторые воинские части выдвигались к границе по специальным распоряжениям из Москвы. Но не известно, насколько их "рубежи обороны" были адекватны ситуации немецкого нападения. Поэтому еще вопрос с какой целью они начали выдвигаться к границе под видом "учений". Но для начала полезно ознакомиться с ответами генералов.
Ответы генералов из бывшего ПрибОВО:
"Генерал-полковник П.П. Полубояров (бывший начальник автобронетанковых войск округа). 16 июня в 23 часа командование 12-го механизированного корпуса получило директиву о приведении соединения в боевую готовность. Командиру корпуса генерал-майору Н.М. Шестопалову сообщили об этом в 23 часа 17 июня по его прибытии из 202-й моторизованной дивизии, где он проводил проверку мобилизационной готовности. 18 июня командир корпуса поднял соединения и части по боевой тревоге и приказал вывести их в запланированные районы. В течение 19 и 20 июня это было сделано.
16 июня распоряжением штаба округа приводился в боевую готовность и 3-й механизированный корпус (командир генерал-майор танковых войск А.В. Куркин), который в такие же сроки сосредоточился в указанном районе.
1953 год".
"Генерал-лейтенант И.П. Шлемин (бывший начальник штаба 11-й армии). Ни о каком распоряжении о выводе войск на государственную границу не помню. По всей видимости, его не было, так как 28-я и 33-я стрелковые дивизии находились в непосредственной близости от неё, а 5-я – в лагере (в 30-35 км от границы).
Во второй половине июня под предлогом выхода в полевой лагерь в районе Ковно сосредоточилась 23-я стрелковая дивизия из Двинска.
В июне, числа 18-20-го, командиры пограничных частей обратились в штаб армии с просьбой оказать им помощь в борьбе с диверсантами, проникающими на территорию Литвы. В связи с этим было принято решение под видом тактических учений дивизиям занять оборону на своих участках и выдать бойцам на руки боеприпасы? которые однако, командующий войсками округа приказал отобрать и сдать на дивизионные склады.
Таким образом, к 20 июня три стрелковые дивизии заняли оборону с задачей прочно удержать занимаемые рубежи в случае нападения противника.
"Генерал-лейтенант П.П. Собенников (бывший командующий 8-й армией). Утром 18 июня 1941 года я с начальником штаба армии выехал в приграничную полосу для проверки хода оборонительных работ в Шяуляйском укрепленном районе. Близ Шяуляя меня обогнала легковая машина, которая вскоре остановилась. Из неё вышел генерал-полковник Ф.И. Кузнецов (командующий ПрибОВО). Я также вылез из машины и подошел к нему. Ф.И. Кузнецов отозвал меня в сторону и взволновано сообщил, что в Сувалках сосредоточились какие-то немецкие механизированные части. Он приказал мне немедленно вывести соединения на границу, а штаб армии к утру 19 июня разместить на командном пункте в 12 км юго-западнее Шяуляя.
Командующий войскам округа решил ехать в Таураге (примерно 25 км от границы) и привести там в боевую готовность 11-й стрелковый корпус генерал-майора М.С. Шумилова, а мне велел убыть на правый фланг армии. Начальника штаба армии генерал-майора Г.А. Ларионова мы направили обратно в Елгаву. Он получил задачу вывести штаб на командный пункт.
К концу дня были отданы устные распоряжения о сосредоточении войск на границе. Утром 19 июня я лично проверил ход выполнения приказа. Части 10, 90 и 125-й стрелковых дивизий занимали траншеи и дерево-земляные огневые точки (ДЗОТы), хотя многие сооружения не были ещё окончательно готовы. Части 12-го механизированного корпуса в ночь на 19 июня выводились в район Шяуляя, одновременно на командный пункт прибыл и штаб армии.
Необходимо заметить, что никаких письменных распоряжений о развертывании соединений никто не получал. Все осуществлялось на основании устного приказания командующего войсками округа. В дальнейшем по телефону и телеграфу стали поступать противоречивые указания об устройстве засек, минировании и прочем. Понять их было трудно. Они отменялись, снова подтверждались и отменялись. В ночь на 22 июня я лично получил приказ от начальника штаба округа генерал-лейтенанта П.С. Кленова отвести войска от границы. Вообще всюду чувствовались большая нервозность, боязнь спровоцировать войну и, как следствие, возникала несогласованность в действиях.
1953 год"
Ответы генералов из бывшего КОВО.
"Генерал-майор П.И. Абрамидзе (бывший командир 72-й горно-стрелковой дивизии 26-й армии). Два стрелковых полка (187 и 14 сп) дивизии располагались вблизи государственной границы с августа 1940 года.
20 июня 1941 года я получил такую шифровку Генерального штаба: "Все подразделения и части Вашего соединения, расположенные на самой границе, отвести назад на несколько километров, то есть на рубеж подготовленных позиций. Ни на какие провокации со стороны немецких частей не отвечать, пока таковые не нарушат государственную границу. Все части дивизии должны быть приведены в боевую готовность. Исполнение донести к 24 часам 21 июня 1941 года".
Точно в указанный срок я по телеграфу доложил о выполнении приказа. При докладе присутствовал командующий 26-й армией генерал-лейтенант Ф.Я. Костенко, которому поручалась проверка исполнения. Трудно сказать, по каким соображениям не разрешалось занятие оборонительных позиций, но этим воспользовался противник в начале боевых действий.
Остальные части и специальные подразделения соединения приступили к выходу на прикрытие госграницы с получением сигнала на вскрытие пакета с мобилизационным планом.
Ответ командира 135-й сд генерала Смехотворова:
"Генерал-полковнику тов. Покровскому А.П.
Докладываю:
… До начала военных действий части 135 стр. дивизии на гос. границу не выводились и такового приказа не поступало. 18 июня 1941 года 135 стр. дивизия выступила из района постоянного расквартирования – Острог, Дубно, Кремец и к исходу 22.06.41 г. прибыла в Киверцы (10-12 километров с.в. г. Луцк) с целью прохождения лагерного сбора, согласно приказа командующего 5 армии генерал-майора Потапова. …"
Ответ бывшего начальника штаба 62-й сд 15 ск 5-й армии полковника П.А. Новичкова (той, на место которой и выдвигалась 135-я сд Смехотворова):
"Части дивизии на основании распоряжения штаба армии в ночь с 16 на 17 июня выступили из лагеря Киверцы. Совершив два ночных перехода, они к утру 18 июня вышли в полосу обороны. Однако оборонительных рубежей не заняли, а сосредоточились в лесах и населенных пунктах вблизи него. Эти действия предпринимались под видом перемещения к месту новой дислокации. Здесь же начали развертывать боевую подготовку.
Числа 19 июня провели с командирами частей рекогносцировку участков обороны, но все это делалось неуверенно, не думалось, что в скором времени начнется война. Мы не верили, что идем воевать, и взяли всё ненужное для боя. В результате перегрузили свой автомобильный и конный транспорт лишним имуществом".
(Дата составления документа отсутствует)
Итак, из ответов генералов на второй вопрос Покровского можно сделать вывод, что после 15 июня в западных округах стали возникать разные распоряжения по передислокации ряда частей и соединений в сторону границы. Но задача подготовки обороны конкретно не ставилась, серьезные оборонительные мероприятия не проводились. Чаще упоминалась задача проведения учений. Это из ответов на первую часть вопроса. На вторую конкретные ответы вряд ли могли быть получены. Что значит "какое количество... было развернуто до начала боевых действий?" Количество чего? Дивизии? Т.е. сколько полков? Армии? Т.е. сколько дивизий из нее? Или корпусов? Насколько это важно? Реально без карты в сравнении с дислокацией противника что-либо понять невозможно. И без ссылок на "план обороны" (который так и не найден). Что и получилось.
* * *
Третий вопрос Покровского:
3. Когда было получено распоряжение о приведении войск в боевую готовность в связи с ожидавшимся нападением фашистской Германии с утра 22 июня; какие и когда были отданы указания по выполнению этого распоряжения и что было сделано войсками?
Ответов на него немного.
Например, ответ командира 135-й сд КОВО генерала Смехотворова:
"Генерал-полковнику тов.
Покровскому А.П.
На Ваш № 679030 от 14 января 1953 г.
Докладываю:
…Распоряжение о приведении частей 135 сд в боевую готовность до начала боевых действий не поступало, а когда дивизия на марше утром 22.06 была подвергнута пулеметному обстрелу немецкими самолетами, из штаба 5 А поступило распоряжение "На провокацию не поддаваться, по самолетам не стрелять".
Распоряжение о приведении в боевую готовность и о приведении в исполнение плана мобилизации поступило лишь утром 23.06.41 г, когда части дивизии находились в Киверцах, в 100-150 километров от пунктов постоянного расквартирования".
(ЦАМО, ф. 15, оп. 1786, д. 50, кор. 22099, лл. 79-86).
Ответ от генерал-лейтенанта Г.В. Ревуненко, начальника штаба 37-й сд 3-й армии ЗапОВО:
"17 июня 1941 года я, и командир 1-го стрелкового корпуса генерал-майор Ф.Д. Рубцов и командир дивизии полковник А.Е. Чехария были вызваны в штаб округа. Нам объявили, что 37 сд должна убыть в полевой лагерь под Лиду, хотя было ясно, что передислокация совершалась в плане развертывания войск на государственной границе. Приказывалось иметь с собой все для жизни в лагере.
Два полка выступили из Лепеля походным порядком, а части Витебского гарнизона были отправлены железной дорогой. Эшелоны составлялись для удобства перевозки, поэтому штаб дивизии следовал без батальона связи, а боеприпасы находились в заключительном эшелоне.
О начале войны мы узнали в 12 часов 22 июня на станции Богданув из речи В.М. Молотова. В то время части дивизии ещё продолжали путь, связи с ними не было, обстановку ни командир, ни штаб не знали.
"Генерал-майор С.Ф. Горохов (бывший начальник штаба 99-й сд 26-й армии). До начала боевых действий распоряжение о выходе частей на участки обороны не поступало. Только артиллерийские полки по приказу командира 8-го стрелкового корпуса генерал-майора М.Г. Снегова были выдвинуты в леса около спланированных огневых позиций. В момент начала военных действия он отдал противоречивые приказы: стрелковым полкам занять оборонительные рубежи, а артиллерийским – огня не открывать до особого распоряжения. Несмотря на наши настойчивые требования, до 10 часов 22 июня так и не было разрешения использовать артиллерию.
"Генерал-майор Н.П. Иванов (бывший начальник штаба 6-й армии). В момент внезапного нападения противника проводились сборы артиллеристов, пулеметчиков, саперов. Из-за этого соединения были организационно раздробленны. Часть войск располагалась в лагерях, имея в пунктах постоянной дислокации запасы вооружения и материальные средств.
Части прикрытия по распоряжению командующего войсками КОВО к границе выдвигать было запрещено.
"Из журнала боевых действий войск Западного фронта за июнь 1941 г. о группировке и положении войск фронта к началу войны1
22 июня 1941 г. Около часа ночи из Москвы была получена шифровка с приказанием о немедленном приведении войск в боевую готовность на случай ожидающегося с утра нападения Германии
Примерно в 2 часа – 2 часа 30 минут аналогичное приказание было сделано шифром армиям, частям укрепленных районов предписывалось немедленно занять укрепленные районы. По сигналу "Гроза" вводился с действие "Красный пакет", содержащий в себе план прикрытия госграницы.
Шифровки штаба округа штабами армий были получены, как оказалось, слишком поздно, 3-я и 4-я армии успели расшифровать приказания и сделать кое-какие распоряжения, а 10-я армия расшифровала предупреждение уже после начала военных действий.
Войска подтягивались к границе в соответствии с указаниями Генерального штаба Красной Армии.
Письменных приказов и распоряжений корпусам и дивизиям не давалось.
Указания командиры
дивизий получали устно от начальника штаба
округа генерал-майора Климовских. Личному
составу объяснялось, что они идут на большие
учения. Войска брали с собой все учебное
имущество (приборы, мишени и т.д.)
.....
Заместитель начальника
штаба Западного фронта
генерал-лейтенант Маландин
....."
(Ф. 208, оп. 355802с, д. 1, лл. 4-10.)
Ответ генерал-майора Б.А.Фомина, бывшего зам. начальника оперативного отдела штаба ЗапОВО:
"Дивизии начали передислокацию в приграничные районы походным порядком в апреле-мае 1941 года. Артиллерия на мехтяге и склады НЗ перевозились по железной дороге. Перемещались следующие соединения: 85-я сд – в районы западнее Гродно, 21-й ск – из Витебска северо-западнее и севернее Лиды, 49-я и 113-я сд – западнее Беловежской пущи, 75-я – из Мозыря. в район Малориты, 42-я – из Березы-Картузской. в Брест и севернее.
В середине июня управлению 47-го ск было приказано к 21-23 июня выдвинуться по железной дороге в район Обуз-Лесны. Одновременно 55-я (Слуцк), 121-я (Бобруйск), 143-я (Гомель) сд комбинированным маршем проследовали туда же, а 50-я сд из Витебска – в район Гайновки.
До начала боевых действий войскам запрещалось занимать оборону в своих полосах вдоль госграницы. К началу авиационного удара (в 3 ч.50 мин. 22 июня) и артподготовки (в 4 ч. 22 июня) противника, успели развернуться и занять оборону госграницы: в 3-й армии –управление 4 ск, 27 и 56 сд; в 10-й – управление 1 и 5 ск, 2, 8, 13 и 86 сд; в 4-й – 6 и 75 сд. В процессе выдвижения подверглись нападению: в 3-й армии – 85 сд, в 4-й – 42 сд.
"Каков вопрос – таков ответ". До сих пор известен только один документ Генштаба, в котором явно упоминается угроза немецкого нападения – "Директива № 1", которую отослали в штабы округов в ночь с 21 на 22 июня 1941 г. В связи с этим если и успевали отправить в "войска" приказ о подъеме по боевой тревоге, то уже под самый момент начала войны. Или уже после него. Отсюда логичен вывод: немецкое нападение не ожидалось до утра 22 июня 1941 г. Как логическое завершение всей предвоенной политики: "планов обороны" не было. Своевременных приказов на выполнение оборонительных мероприятий тоже. В немецкое нападение никто не верил. Что генералы своими ответами и подтвердили.
Это же подтверждает и четвертый вопрос Покровского:
* * *
4. Почему большая часть артиллерии находилась в учебных центрах?
Но ответы на него генералов в ВИЖ не
приведены.
"Почему", "почему"? Москва приказала
через штабы округов!
Вполне логичное мероприятие при плановой
подготовке боевых действий.
Но не обороны от неожиданного нападения.
* * *
5-ый вопрос Покровского на сайте "оболганности" обсуждать не стали:
5. Насколько штабы были готовы к управлению войсками и в какой степени это отразилось на ходе ведения операций первых дней войны?
Если остальное не было готово, то о какой успешной работе штабов могла идти речь?
* * *
Может возникнуть вопрос: в рамках какой теории действия РККА перед 22.06.1941 могут оказаться правильными и логичными? Как показывает изучение советских источников 30-х годов, такой может быть только подготовка "манёвра" по теории ММВ (мото-механизированной войны). Причем, манёвра наступательного.
Даже есть конкретная статья в журнале "Военная мысль" номер 3 за 1941 г. "ОПЕРАТИВНАЯ ВНЕЗАПНОСТЬ" (автор – полковник А. И. СТАРУНИН) (), в которой единственная причина именно этих действий объясняется просто (с. 33):
"Обеспечение внезапного маневра в современных условиях
Основным препятствием для внезапного оперативного маневра является авиация. Естественно, что при решающем превосходстве авиации, как это было, например, на стороне Германии во время германо-польской войны, оперативной внезапности сравнительно легко можно достигнуть на любом участке фронта. При равных силах в авиации и мото-мехвойсках достижение внезапности значительно труднее.
Не останавливаясь на действиях авиации, рассмотрим обеспечение внезапности маневра наземных войск. Учитывая возможные действия авиационной разведки противника, каждый командующий крупным общевойсковым соединением, тем более армией, должен заранее подготовиться к противодействию и найти все способы и средства, чтобы "укрыть" задуманный им маневр от авиации противника хотя бы на определенное время. Успех этого во многом будет зависеть от подготовки войск в мирное время. Сосредоточение незаметно для противника крупных войсковых соединений (а тем более армий) в нужный район необходимо проводить рассредоточенно. Стрелковая дивизия вынуждена будет двигаться в район сосредоточения небольшими по глубине колоннами на широком фронте и, как правило, в ночное время . Естественно, что такой маневр потребует значительных усилий и соответствующей тренировки сил в мирное время."
Ночами надо двигать дивизии к месту сосредоточения для выполнения маневра в мото-механизированной войне! А что он из себя представляет ("маневр")? Уточняю: переход войск в наступление. Других пониманий быть не может. Для обороны ночами можно и не двигаться. Если есть время – достаточно днем. И при приглашении на эти пути корреспондентов со всех аккредитованных газет. Под оркестры и лозунги: "Мы идем оборонять нашу страну!" И при различных демаршах министерства иностранных дел с обращением ко всей мировой общественности. Нехай готовящийся супостат задумается, сколько крови ему придется потратить, если он вздумает напасть!
А вот ночами тайно выдвигать войска к
границе имеет смысл при подготовке наступления.
Главное - успеть сосредоточиться. Ибо если не
удасться и противник ударит раньше, то может
случиться бооольшая путаница и срыв всего плана
(что скорее всего и получилось летом 1941 г.).
Что же касается комментария Олега Козинкина на сайте "оболганности", то чтобы с ним согласиться, придется согласиться и с тем, что в СССР к июню 1941 г. существовало ТРИ отдельных пары Наркомата Обороны и Генштаба.
1. Во-первых, должен был быть "правильный" Генштаб и Наркомат обороны, которые видели угрозу немецкого нападения и вовремя готовили войска к его отражению. В частности, уже заранее 13-18 июня отправляли в западные округа правильные приказы о срочном приведении войск в боевую готовность. Вот какими размышлениями подтверждает эту гипотезу Олег Козинкин:
".... Так может никакой "инициативы" и в ПрибОВО не было вовсе (в Одесском тем более)? А Кузнецов просто выполнял приказы Генерального штаба , но как раз до подчиненных эти приказы не довел? Да и выполнял он эти приказы НКО и ГШ от 13-18 июня так со своим начштаба Кленовым, что внесли сплошную сумятицу в войсках округа. Т.е., в случае проверки из Москвы – вроде приказ ГШ от 18 июня о приведении в б.г. выполняется. А на самом деле войска действуют в режиме – "иди сюда – стой там". И примерно так же они выводили и войска из глубины округов к границе в эти же дни, под видом "учений". Не доводя до командования армиями, что приказ Москвы (Директива НКО и ГШ от 13 июня) стоит четкий – "вывести в районы предусмотренные планом прикрытия" и это значит что никаких "мишеней" брать не надо.
.....
И приграничная дивизия Абрамидзе стала выходить на свои рубежи обороны именно после того как получила "особый приказ наркома", после того как Абрамидзе получил этот приказ 20 июня. И скорее всего речь в ответе Абрамидзе идет о приказе ГШ от 18 июня, существование которого всячески отрицается скептиками и "официальными" историками..."
2. Но одновременно должна была существовать пара "неправильных" Генштаба и Наркомата обороны, которые если и видели угрозу немецкого нападения, но всячески саботировали выполнение задачи подготовки РККА к ее отражению. По мнению Олега Козинкина это особенно хорошо видно на примере саботажа отправки в округа "Директивы № 1":
"... После того как вечером 21 июня в кабинете Сталина принимается решение о приведении всех войск западных округов в полную боевую готовность, в 22.20 подписывается прямой приказ на приведение в боевую готовность. Подписывается "Директива № 1". После которой в округах должны были поднимать войска по боевой тревоге уже открыто. И после этого начинается очередной этап сознательного саботажа со стороны генералов в доведении этой директивы до войск западных округов . И в этом уже напрямую оказывается замешан нарком обороны СССР С.К. Тимошенко и начальник Генерального штаба Г.К. Жуков, а также возможно начальник оперативного управления Генштаба Г.К. Маландин (в округах срывом доведения до войск "Директивы № 1" занималось уже командование округов).
Эти трое сделали всё возможное чтобы "немедленно" отправить Директиву № 1 в западные округа и сделали это так "быстро", что её отправили из ГШ только около и после 1.00 часа ночи. Т.е. спустя почти 2,5 часа после её подписания в кабинете Сталина!!!"
3. Кроме того, должна была существовать и третья пара "неправильных" Генштаба и Наркомата обороны, которые не видел необходимости готовить оборону на своей территории. И вместо этого занимались какой-то ерундой: попытались подготовить некий "контрудар", видимо, руководствуясь соображением: что лучшая оборона – это наступление!
" 3) Теперь при анализе совершившихся событий стало ясно, что отдельные работники Генерального штаба, зная, что в первый период войны превосходство в реальных силах будет на стороне Германии, почему-то проводили и разрабатывали главным образом наступательные операции и только в последнее время (в конце мая 1941 г.) провели игру по прикрытию границы, тогда как нужно было на первый период войны с учетом внезапности нападения разработать и оборонительные операции".
....
А это уже прямое обвинение ГШ в том, что вместо активной обороны, предусмотренной в "Соображения…" от Шапошникова от октября 1940 года Генштаб, т.е. Жуков и компания устроили всеобщее немедленное контрнаступление по всему фронту на вторгшегося врага. И может в мае и "провели игру по прикрытию границы", но в реальности Жуков и Тимошенко именно всеобщее наступление и устроить пытались в первые же дни Войны. И общее размещение войск и складов и должно было как раз этому "способствовать". ...."
Но и на этом количество саботажников не заканчивается. Оказывается (по мнению Олега Козинкина), что правильные команды из Генштаба и НКО (только надо уточнить: из какой "пары") на "местах" тоже не спешили выполнять. Особенное "усердие" в "торможении" проявляли генералы в штабах округов.
В результате офицеры и генералы более низкого уровня не могли четко уяснить ситуацию и вынуждены были уже на свой "страх и риск" (?) проявлять инициативу. Или не проявлять.
Вот в результате и возник "разгром".
Возможно, в такой "логике" есть какой-то смысл. (Если согласиться, что в СССР перед 22.06.1941 г. существовало ТРИ пары "НКО-Генштаб").
Но Олег Козинкин не настаивает на своей интерпретации. Свое "исследование" он заканчивает уточнением:
".... Документы показаны, мемуары разобраны, «показания» представлены. И читающему осталось только самому и сделать свой вывод – так приводились ли войска западных округов в боевую готовность за несколько дней перед 22 июня или нет? А если приводились, то почему так и не были приведены в реальности? И после этого останется только один вопрос – а кто виноват в том, что приведение в боевую готовность войск на границе перед 22 июня не состоялось, а точнее – было сорвано, и кем?
Ни в коем случае не претендуя на «истину в последней инстанции» все же хотелось бы, чтобы возможные оппоненты делали свои выводы на именно – документах, мемуарах и показаниях.… Берите эти документы мемуары и показания, найдите новые и сделайте противоположный вывод – буду рад если получится. Но не забывайте что «вердикт» в споре «выводов» будет делать читающий…. Данная работа не есть «версия» или «гипотеза всё объясняющая». Это разбор и анализ существующих, опубликованных и вполне доступных материалов. Так что читайте, анализируйте и делайте вывод сами…. И выбирайте – чья правда правдей.
17.08.2010 г."
Так что читайте, анализируйте и делайте вывод сами (сколько там было пар "НКО-Генштаб", а?. Может даже не три, а больше?)....
Командующим войсками Кубанской области
Покровский Виктор Леонидович (1889-1922) - генерал-лейтенант. Окончил Павловское военное училище и Севастопольскую авиационную школу. Участник Первой мировой войны , военный летчик. Георгиевский кавалер. В 1917 г.- штабс-капитан и командир 12-го армейского авиационного отряда в Риге. После Октябрьского переворота сформировал на Кубани 2-й Добровольческий отряд. После первоначальных успехов был вынужден оставить Екатеринодар 1 марта 1918 г. Назначен Кубанской радой командующим войсками Кубанской области и произведен в полковники, а затем в генерал-майоры. Командовал Кубанской армией, ушедшей в Ледовый поход, до ее соединения с Добровольческой армией в ауле Шенджий. В Добровольческой армии - командир конной бригады и дивизии. В ВСЮР - командир 1-го Кубанского казачьего корпуса в составе Кавказской армии генерала Врангеля. За взятие Камышина генералом Деникиным был произведен в генерал-лейтенанты. С ноября 1919 по февраль 1920 г. - командующий Кавказской армией (после генерала Врангеля ). В Русской армии генерала Врангеля не получил назначения на командную должность и эмигрировал в апреле 1920 г. Генерал В. Л. Покровский был убит террористами 9 ноября 1922 г. в Кюстендиле (Болгария).
Использованы материалы кн.: Николай Рутыч Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных Сил Юга России. Материалы к истории Белого движения М., 2002

Командующий группой войск
Покровский Виктор Леонидович (1889-09.11.1922). Штабс-капитан (1917). Полковник (24.01.1918) и генерал-майор (01.03.1918) - оба звания присвоены решением Кубанской Рады. Генерал-лейтенант (04.04.1919, произведен генералом Деникиным). Окончил Одесский кадетский корпус (1906), Павловское военное училище (1909) и Севастопольскую авиашколу. Участник Первой Мировой войны: капитан в 1-м гренадерском полку; военный летчик - командир эскадрильи и командир 12-го авиаотряда в Риге, 1914-1917. В Белом движении: по поручению Кубанской Рады сформировал 2-й добровольческий отряд (Кубанскую армию) численностью около 3000 бойцов, 01-03.1918. Первый же немногочисленный отряд Покровского (около 300 солдат-казаков) в боях с красными частями нанес (21 - 23.01.1918) им жестокое поражение под Энемом, у станицы Георгие-Афинской. 03.02.1918 возвратился в Краснодар, который вскоре, 01.03.1918, вынужден был оставить под давлением значительно превосходящих сил красных. Назначен командующим Кубанской армией 01.03- 30.03.1918. После встречи с Добровольческой армией генерала Корнилова 27.03.1918 в районе станицы Рязанской (аул Шенджий) Кубанская армия вошла составной частью (3000 бойцов) в Добровольческую армию (2700 штыков и сабель, из которых 700 - раненых), и по обоюдному согласию общее командование этими силами было возложено на генерала Корнилова. Командующий войсками Кубанского края, 04-06.1918; командир 1-й Кубанской бригады, 06- 08.1918. Командир 1-й Кубанской конной дивизии, 08.1918-01.1919. С 03.01.1919 командующий 1-м Кубанским корпусом, 01-07.1919. Командующий группой войск Кавказской армии под Царицыным, захватил Камышин, на Волге; 07-09.1919. 09.09.1919 заболел и сдал 1-й Кубанский корпус генералу Писареву. После выздоровления назначен начальником тыла Кавказской армии, 10-11.1919. С 13 (26). 11. 1919 командующий Кавказской армией, сменил генерала Врангеля; 26.11.1919-21.01.1920. Эмигрировал из Крыма 04.1920 в Болгарию, не получив командной должности в Русской армии генерала Врангеля. Убит 09.11.1922 (агентами НКВД?) в Кюстендиле (Болгария) в своем кабинете редактора газеты.
Использованы материалы кн.: Валерий Клавинг, Гражданская война в России: Белые армии. Военно-историческая библиотека. М., 2003.

Свидетельствует барон Врангель
Генерала Покровского, произведенного в этот чин постановлением Кубанского правительства, я знал по работе его в Петербурге в офицерской организации, возглавляемой графом Паленом. В то время он состоял на службе в авиационных войсках в чине штабс-капитана. Незаурядного ума, выдающейся энергии, огромной силы воли и большого честолюбия, он в то же время был мало разборчив в средствах, склонен к авантюре.
Врангель П.Н. Записки. Ноябрь 1916 г. - ноябрь 1920 г. Воспоминания. Мемуары. - Минск, 2003. т. 1. с. 109
На заседание Краевой рады прибыл, кроме генерала Покровского и полковника Шкуро , целый ряд офицеров из армии. Несмотря на присутствие в Екатеринодаре ставки, как прибывшие, так и проживающие в тылу офицеры вели себя непозволительно распущено, пьянствовали, безобразничали и сорили деньгами. Особенно непозволительно вел себя полковник Шкуро. Он привел с собой в Екатеринодар дивизион своих партизан, носивший наименование "Волчий". В волчьих папахах, с волчьими хвостами на бунчуках, партизаны полковника Шкуро представляли собой не воинскую часть, а типичную вольницу Стеньки Разина. Сплошь и рядом ночью после попойки партизан Шкуро со своими "волками" носился по улицам города с песнями, гиком и выстрелами. Возвращаясь как-то вечером в гостиницу, на Красной улице увидел толпу народа. Из открытых окон особняка лился свет, на тротуаре под окнами играли трубачи и плясали казаки. Поодаль стояли, держа коней в поводу, несколько "волков". На мой вопрос, что это значит, я получил ответ, что "гуляет" полковник Шкуро. В войсковой гостинице, где мы стояли, сплошь и рядом происходил самый бесшабашный разгул. Чесов в 11-12 вечера являлась ватага подвыпивших офицеров, в общий зал вводились песенники местного гвардейского дивизиона и на глазах публики шел кутеж. Во главе стола сидели обыкновенно генерал Покровский, полковник Шкуро, другие офицеры. Одна из таких попоек под председательством генерала Покровского закончилась трагично. Офицер-конвоец застрелил офицера татарского дивизиона. Все эти безобразия производились на глазах главнокомандующего, о них знал весь город, в то же время ничего не делалось, чтобы прекратить этот разврат.
Врангель П.Н. Записки. Ноябрь 1916 г. - ноябрь 1920 г. Воспоминания. Мемуары. - Минск, 2003. т. 1. с. 153
Документ
Приказ №2 по городу Майкопу
За то, что население города Майкопа (Николаевская, Покровская и Троицкая слободки) стреляло по добровольческим войскам, налагаю на вышеупомянутые окраины города контрибуцию в размере одного миллиона рублей.
Контрибуция должна быть выплачена в трехдневный срок.
В случае невыполнения моего требования вышеупомянутые слободки будут сожжены дотла.
Сбор контрибуции возлагаю на коменданта города есаула Раздерищина.
Начальник 1-й Кубанской казачьей дивизии
генерал-майор Покровский.
(Цитируется по материалам личного архива Артема Веселого "Россия кровью умытая", "Новый мир" №5, 1988)
9-го ноября 1922 года в г. Кюстендиле, на границе Болгарии И Сербии, погиб от предательской руки один из сознательных патриотов земли Русской генерал Виктор Леонидович Покровский. Это был энергичный, горячего темперамента, образованный, самоотверженный, гуманный, вдохновенно проникнутый и фанатически преданный идее борьбы с большевизмом человек.
RU;mso-bidi-language:AR-SA">Это тот Покровский, который первым из Русских военных летчиков во время европейской войны захватил в воздушном бою в плен неприятельский аппарат с летчиком и наблюдателем и тем в самом начале военных действий сразу покрыл славою имя молодой тогда Русской авиации.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">Это - тот Покровский, который, среди крайне тяжелых условий, первым поднял знамя борьбы на Кубани за освобождение России от ее угнетателей.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">Погиб он в полном расцвете сил, в то время, когда, как вождь, прибыл к своим старым соратникам, чтобы им, среди тягостей изгнания, помочь, вдохнуть, и поддержать их гаснувшие силы и увлечь на новый подвиг.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">Он не мог мириться с серою эмигрантскою жизнью. Присущие ему исключительная идейность, высокое чувство национализма и любовь к России всегда увлекали его на самопожертвование для горячо любимой им Родины.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">Два года зарубежной жизни протекли для покойного в непрерывной научной работе. Он в совершенстве изучил нынешнее общее политическое и экономическое положение Европы и в частности советской России, написав о нем громадный в пяти частях труд своего анализа.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">Слишком тяжело ему было жить и работать среди парижской, берлинской и венской эмиграции, в большинстве своем ушедшей в область личных материальных забот жизни.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">В конце 1922 года он покинул Берлин и направился в страну, где, среди особенно тягостных условий, живут кадры армии, - та категория Русских эмигрантов, которая вынесла на своих плечах всю тяготу вооруженной борьбы, походов и эвакуаций, но
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">продолжающая все-таки стойко и идейно верить в скорое падение власти советов, - в Болгарию. Его появление в Болгарии вызвало охоту по нем со стороны коммунистов.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">Он был дважды предан им, зорко следившим, в лице чекиста Чайкина, изменника Секретева и других - за этим гениальным организатором. Первый раз его предал, продавший свою шпагу большевикам, генерал Муравьев. - «К счастью, хотя и в последний момент, писал В. Л. Покровский 30-го октября 1922 г., но все же это было замечено.» Пришлось покинуть Софию и переехать в г. Родомир. Увы!.. Он спасся от одного предателя, а там его поджидал уже другой. И кто? Известный ему уже четыре года офицер. Сотник Артемий Соколов.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">7-го ноября Покровский послал Соколова в Софию для выполнения некоторых поручений и приказал ему на следующий день с определенным поездом прибыть в г. Кюстендил, где и должна была состояться их встреча. Перед отправкою Соколова, бывшие вместе в генералом Покровским офицеры заявили последнему, что они не доверяют Соколову и опасаются, как бы он ни предал его.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">- «Я его знаю 4 года лично, он и все, кто со мной - люди - вне подозрений,» ответил Покровский.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">Но на следующий день с условленным поездом Соколов не прибыл; это еще более вызвало подозрение у бывших с Покровским лиц, предложивших ему переехать в другой город. Однако он решительно отверг это предложение.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">9-го ноября, около 10 ч. вечера в Кюстендиль на автомобилях прибыли чекисты Чайкина и, окружив вместе с болгарскими солдатами дом, где находился Покровский, открыли стрельбу. Покровский выбежал, выстрелами из револьвера ранил двух чекистов и прорвался через нападавших во двор; здесь был ранен болгарским солдатом штыком в бок и упал; подбежали коммунисты, схватили раненого, положили на автомобиль и увезли. По дороге его истязали, ограбили и, наконец, зверски добив, бросили изуродованное тело в морг Кюстендильской больницы.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">На просьбу родственников убитого, обращенную в прокурору Софийского суда о производстве следствия об ограблении В. Л. Покровского и об истязаниях, последствием которых была его смерть, болгарские власти не сочли нужным даже ответить. Предатель Соколов, получив за свое мерзкое дело 10000 болгарских лев, остался в Софии под защитой коммунистов и их прислужников.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">Прошлое этого выдающегося человека весьма интересно. Оно выявляет и его исключительные дарования, редкую любовь к Родине и твердую, непоколебимую веру в возрождение России.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">В. Л. Покровский из Одесского кадетского корпуса поступил в 1906 году в Павловское военное училище, которое он окончил первым и затем был произведен в офицеры в Гренадерский Малороссийский полк. Заурядная служба в полку его не удовлетворяла: он, еще совсем юный, мечтал о большой работе, о широкой деятельности. Весь свой досуг он отдавал чтению, научным занятиям и особенно заинтересовался авиациею. Он верил в ее будущее, в ее громадное значение на войне и решил посвятить себя этой области.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">В 1912 году он поступил в Петроградский Политехнический Институт, в класс авиации, где с исключительным интересом изучил технику летательных аппаратов, а затем переехал для прохождения практических занятий в Севастопольскую авиационную школу. Закончив курс и сдав в Ноябре 1914 г. экзамен, он немедленно отправился в Действующую Армию, с столь дорогим для него званием военного летчика.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">Месяца не проходит чтобы отважный летчик не совершил выдающегося подвига. Одна за другой боевые награды украшают его грудь. Вот небольшая выписка из послужного списка Покровского всего за два месяца его деятельности:
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">Военный летчик поручик Виктор Покровский, в период времени с 16-го мая по 15-ое июля 1915 г. произвел, исключая перелеты, 40 воздушных разведок, каждый раз выполняя данные задания, давая штабам корпусов ценные сведения о противнике. Разведки эти производились под сильным орудийным, пулеметным и ружейным огнем неприятеля. За означенный период времени Покровский, согласно официальной реляции, пробыл в воздухе над противником 141 час; участвовал в четырех воздушных боях, обстреливая неприятельские аппараты и дважды препятствуя им произвести разведку; помимо сего 16-го мая участвовал в воздушном бою с германским аппаратом и произвел разведку, несмотря на то, что аппарат его был поврежден пулей противника, причем в 35 верстах от своих позиций и весь путь до них подвергся обстрелу германского аппарата, летящего прямо над головой, и перешел позиции на высоте всего 700 метров. 7-го Июня обстрелял германский аппарат и заставил его спуститься. 15-го июня совершил ночной полет для отыскания батарей противника и обнаружил шесть неприятельских батарей. 27-го июня преследовал аппарат противника и заставил его повернуться и спуститься. 9-го июля во время разведки тыла противника, попавшей в мотор пулей - свернут клапан и тяга цилиндра аппарата Покровского и, несмотря на то, что цилиндр был приведен в полную негодность и мотор в 11 верстах в тылу у противника выключился, сумел спуститься на своей территории, не повредив аппарата.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">15-го июля Покровский совершает настолько значительное по отваге и ценности результата дело, что вскоре по представлению Верховного Главнокомандующего, награждается офицерским крестом Св. Георгия 4-ой степени и имя его попадает на страницы многочисленных приказов, газет и журналов.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">Это было на австрийском фронте, у Золотой Липы, где стоял 2-ой Сибирский корпусный авиационный отряд, в котором служил покойный.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">Утром 15-го июля Покровский вместе со своим наблюдателем корнетом Плонским, совершив обычную разведку, вернулся сильно утомленным на аэродром отряда.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">В тот же день около полудня, вдруг появился у Золотой Липы больших размеров австрийский «альбатрос», который держал направление на расположенный недалеко от 2-го Сибирского авиационного отряда штаб армии, видимо с намерением бросить туда бомбы.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">Это заметил Покровский: забыв усталость, он приказал наблюдателю Плонскому садиться в аэроплан. Мигом они вскочили на «фарман» и аппарат стал брать высоту, держа путь прямо на австрийский альбатрос. На высоте около двух верст, почти над самым штабом армии, Покровский вступил в бой с австрийским летчиком. Меткой стрельбой и поразительно искусным управлением аппарата, Покровский вызвал замешательство на альбатросе и австриец, повернув, стал уходить. Но Покровский сумел занять позицию над ним и начал прижимать его к низу. Противник снижался и затем, опасаясь сесть на верхушки леса, вынужден был спуститься. Тогда Покровский поспешил снизиться саженях в 40 от альбатроса и выскочил из своего фармана; приказав Плонскому охранять его, сам бросился к австрийцам, которые спешили поджечь свой аппарат. Покровский стремительно подбежал в летчику и ударом рукоятки револьвера сбил его с ног, а на наблюдателя, офицера австрийского генерального штаба, направил маузер. Обезоружив офицеров и поставив их впереди себя с заложенными назад руками, он следовал лично за ними и таким образом привел пленных в штаб армии, а затем доставил в авиационный отряд совершенно исправный австрийский аппарат.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">Имя Покровского стало в войсках популярным. В сентябре 1915 г. он срочно был вызван в Ставку, где ему дано было чрезвычайно важное задание по разведке глубокого тыла противника. Данное поручение было блестяще им выполнено.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">В январе 1916 года Покровский, в чине капитана, был назначен командиром 12-го Армейского авиационного отряда, стоявшего в Риге. Ежедневные налеты немецких «Таубе» делали работу отряда крайне напряженной, постоянные разведки сопровождались очень часто воздушными боями. Сильно поредел состав отряда, сам Покровский, и без того уже израненный, получил контузию, перелом двух ребер и отморозил себе руки. За то его отряд стяжал славу неустрашимого и побил рекорд пребывания в воздухе.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">Наступила революция, а с нею разложение армии. Не мог перенести и примириться с несмываемым позором «великой и бескровной» истый воин и, бросив любимое дело, поехал в Петербург, где примкнул к организациям Корнилова и Колчака. После октябрьского переворота, не теряя веры в дело спасения, пробрался на Дон к Каледину, а затем на
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">Кубань, - в Екатеринодар, где стал во главе первых добровольческих формирований.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">Лучше всего характеризует Покровского сама же Кубань в своих многочисленных постановлениях об избрании его почетным казаком освобожденных им от большевиков городов и станиц. Простой, безыскусный язык постановлений казачьих сборов называет его героем Кубани, освободителем области от изуверов большевиков, защитником закона и справедливости, покровителем обездоленных. 95 станиц Кубанского Войска избрали его своим почетным стариком. Это же почетное звание он получил от 8 черкесских аулов, 7 станиц Терского Войска, 5 - Войска Донского и 3 Войска Астраханского. Екатеринодар, Новороссийск, Майкоп, Ейск, Анапа, Темрюк и Туапсе избрали его своим почетным гражданином.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">Самостоятельно подняв в декабре 1917 г. восстание на Кубани, разгромив большевиков на Новороссийском направлении, организовав героическую оборону Екатеринодара и взяв в январских и февральских боях в плен более 4000 человек, 16 орудий, 60 пулеметов, Покровский, уже в должности Командующего Войсками Кубанской Области, благополучно 28-го февраля 1918 г. вывел Армию и Екатеринодара и 14-го марта соединился с Армией генерала Корнилова.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">Для выполнения задания генерала Корнилова, он, что называется, с коня, среди всех тягостей 1-го Кубанского похода, приступил к организации регулярных частей 1-ой Кубанской казачьей дивизии. К этому делу он приложил строго продуманный план и к маю 1918 г. сформировал первые 4 полка этой дивизии и тем возродил Кубанскую конницу. Формируя и в то же время ведя со своими полками бои, Покровский с апреля по август ликвидировал Батайскую и Таманскую красные армии, очистил от большевиков Задонский район и все Черноморские и Закубанские станицы. Участвовал со своей дивизией при занятии Екатеринодара и, после непрерывных боев, овладел городами Темрюком, Анапой, Новороссийском, Майкопом, Туапсе и Ейском.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">В качестве Командира 1-го Кубанского Казачьего Корпуса с августа 1918 по февраль 1919 года, Покровский разгромил и пленил 11, 12 и 13 советские армий и овладел почти всем Северным Кавказом, с городами - Георгиевск, Моздок, Грозный, Кизляр, - при чем взял в плен 119000 красноармейцев, 171 орудие, 426 пулеметов и 19 бронепоездов.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">В феврале 1919 года 1-ый Кубанский и 2-ой Донской корпуса, под общею командою Покровского, были переброшены на Дон, где тогда положение белых сильно ухудшилось. Он вел неустанные бои на подступах к Новочеркасску, заставил большевиков отойти и овладел Донецким каменноугольным бассейном, 2-м Донским и Сальским округами и, что весьма важно, произвел полный разгром конницы Думенко.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">В мае 1919 г. Покровский в составе Кавказской Армий повел поход на Царицын и в июне уже участвовал в захвате последнего.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">Все лето 1919 года Покровский командовал войсками Волжской группы; разбил 8, 9 и 10 советские армии и овладел Камышинским и приволжским укрепленными районами, вплоть до 1-ой линии фортов Саратова, причем взял у красных в плен 52000 человек, 142 орудия, 396 пулеметов, 2 бронепоезда.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">Во время этих боев Покровский проявил исключительную личную храбрость и был ранен. За занятие Камышина Главнокомандующий генерал Деникин произвел его в генерал-лейтенанты.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">В октябре того же года Покровский был назначен преемником генерала Врангеля, покинувшего пост Командующего Кавказской Армией.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">Командуя Армией до февраля 1920 года, когда, было ему приказано отступить, - разгромил 34, 35, 37 и часть 38 советских стрелковых дивизий.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">За все время командования войсками, в боях против советских сил пленных и трофеев взято было генералом Покровским: пленных - 239000, орудий - 454, пулеметов - 1193, бронепоездов - 34, бронеавтомобилей - 19, канонерок - 3, мониторов - 6, болиндеров - 7.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">И в результате этой непостижимо колоссальной работы, долгих лет войны, ранений, чрезвычайных усилий и лишений, спасения сотен тысяч человеческих жизней - предательство, мученическая смерть и осиротелая, без средств к существованию, семья с тремя малолетними детьми.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">Даже прах Покровского до сих пор не вывезен из Болгарии в Сербию, о чем так просит несчастная вдова покойного.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">С мечом карающим в руке, в терновом венце ушел от нас еще один рыцарь долга и чести. Погасла его яркая звезда, в которую он так неизменно верил. Прервалась кипучая жизнь, имевшая столь большое значение в Русском национальном деле.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">Еще мрачнее стало на душе горсти оставшихся в живых его соратников.
"Microsoft Sans Serif";color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:
RU;mso-bidi-language:AR-SA">Но пусть каждый из нас, среди общих Русских страданий, почаще вспоминает слова Покровского, которые он всегда говорил в тяжелые дни прошлой борьбы: «Чем ночь темней, тем ярче звезды.»…
Ви́ктор Леони́дович Покро́вский ( , Нижегородская губерния - 8 ноября , Кюстендил , Болгария) - генерал-лейтенант. Участник Великой и гражданской войн. Первопоходник . В 1919 командующий Кавказской армией , преемник на этом посту генерала барона П. Н. Врангеля .
Биография
Первая мировая война
Покровский был молод, малого чина и военного стажа и никому неизвестен. Но проявлял кипучую энергию, был смел, жесток, властолюбив и не очень считался с «моральными предрассудками». … Как бы то ни было, он сделал то, чего не сумели сделать более солидные и чиновные люди: собрал отряд, который один только представлял из себя фактическую силу, способную бороться и бить большевиков.
В апреле - июне 1918 - командующий войсками Кубанского края, в июне - августе 1918 - командир 1-й Кубанской бригады. В августе 1918 - январе 1919 - командир 1-й Кубанской конной дивизии , с 3 января 1919 - командующий 1-м Кубанским корпусом . С июля 1919 - командующий группой войск Кавказской армии под Царицыным , захватил Камышин на Волге .
9 сентября 1919 заболел и сдал 1-й Кубанский корпус генералу Писареву . После выздоровления назначен начальником тыла Кавказской армии (октябрь - ноябрь 1919). В этом качестве, по приказу генерала Врангеля, руководил разгоном обвинённой в сепаратизме Кубанской казачьей рады, один из руководителей которой, священник Алексей Кулабухов , был повешен «за измену России и кубанскому казачеству» по приговору военно-полевого суда.
С 26 ноября 1919 по 21 января 1920 - командующий Кавказской армией, сменил генерала Врангеля , который так характеризовал В. Л. Покровского:
Незаурядного ума, выдающейся энергии, огромной силы воли и большого честолюбия, он в то же время был мало разборчив в средствах, склонен к авантюре.
Был снят с должности после полного разложения вверенных ему войск под ударами Красной армии.
Отличался жестокостью: по данным современников, там где стоял штаб Покровского, всегда было много расстрелянных и повешенных без суда, по одному подозрению в симпатиях к большевикам. Ему приписываются шутки вроде «вид повешенного оживляет ландшафт» или «вид на виселицу улучшает аппетит». Современный российский историк С. В. Карпенко даёт следующий «портрет» В. Л. Покровского:
Его страшная репутация вешателя подчеркивалась внешним видом. Невысокая сутуловатая фигура, затянутая в неизменную черкеску, нахмуренный лоб, крючковатый птичий нос и пронзительный взгляд темных глаз напоминали беспощадного степного хищника. Грозный вид вооружённых до зубов офицеров его личного конвоя - чеченцев и ингушей - ещё сильнее сгущал атмосферу страха вокруг обожаемого ими начальника.
В эмиграции
|
||||||
Отрывок, характеризующий Покровский, Виктор Леонидович
Герасим и дворник, шедшие следом за Макар Алексеичем, остановили его в сенях и стали отнимать пистолет. Пьер, выйдя в коридор, с жалостью и отвращением смотрел на этого полусумасшедшего старика. Макар Алексеич, морщась от усилий, удерживал пистолет и кричал хриплый голосом, видимо, себе воображая что то торжественное.– К оружию! На абордаж! Врешь, не отнимешь! – кричал он.
– Будет, пожалуйста, будет. Сделайте милость, пожалуйста, оставьте. Ну, пожалуйста, барин… – говорил Герасим, осторожно за локти стараясь поворотить Макар Алексеича к двери.
– Ты кто? Бонапарт!.. – кричал Макар Алексеич.
– Это нехорошо, сударь. Вы пожалуйте в комнаты, вы отдохните. Пожалуйте пистолетик.
– Прочь, раб презренный! Не прикасайся! Видел? – кричал Макар Алексеич, потрясая пистолетом. – На абордаж!
– Берись, – шепнул Герасим дворнику.
Макара Алексеича схватили за руки и потащили к двери.
Сени наполнились безобразными звуками возни и пьяными хрипящими звуками запыхавшегося голоса.
Вдруг новый, пронзительный женский крик раздался от крыльца, и кухарка вбежала в сени.
– Они! Батюшки родимые!.. Ей богу, они. Четверо, конные!.. – кричала она.
Герасим и дворник выпустили из рук Макар Алексеича, и в затихшем коридоре ясно послышался стук нескольких рук во входную дверь.
Пьер, решивший сам с собою, что ему до исполнения своего намерения не надо было открывать ни своего звания, ни знания французского языка, стоял в полураскрытых дверях коридора, намереваясь тотчас же скрыться, как скоро войдут французы. Но французы вошли, и Пьер все не отходил от двери: непреодолимое любопытство удерживало его.
Их было двое. Один – офицер, высокий, бравый и красивый мужчина, другой – очевидно, солдат или денщик, приземистый, худой загорелый человек с ввалившимися щеками и тупым выражением лица. Офицер, опираясь на палку и прихрамывая, шел впереди. Сделав несколько шагов, офицер, как бы решив сам с собою, что квартира эта хороша, остановился, обернулся назад к стоявшим в дверях солдатам и громким начальническим голосом крикнул им, чтобы они вводили лошадей. Окончив это дело, офицер молодецким жестом, высоко подняв локоть руки, расправил усы и дотронулся рукой до шляпы.
– Bonjour la compagnie! [Почтение всей компании!] – весело проговорил он, улыбаясь и оглядываясь вокруг себя. Никто ничего не отвечал.
– Vous etes le bourgeois? [Вы хозяин?] – обратился офицер к Герасиму.
Герасим испуганно вопросительно смотрел на офицера.
– Quartire, quartire, logement, – сказал офицер, сверху вниз, с снисходительной и добродушной улыбкой глядя на маленького человека. – Les Francais sont de bons enfants. Que diable! Voyons! Ne nous fachons pas, mon vieux, [Квартир, квартир… Французы добрые ребята. Черт возьми, не будем ссориться, дедушка.] – прибавил он, трепля по плечу испуганного и молчаливого Герасима.
– A ca! Dites donc, on ne parle donc pas francais dans cette boutique? [Что ж, неужели и тут никто не говорит по французски?] – прибавил он, оглядываясь кругом и встречаясь глазами с Пьером. Пьер отстранился от двери.
Офицер опять обратился к Герасиму. Он требовал, чтобы Герасим показал ему комнаты в доме.
– Барин нету – не понимай… моя ваш… – говорил Герасим, стараясь делать свои слова понятнее тем, что он их говорил навыворот.
Французский офицер, улыбаясь, развел руками перед носом Герасима, давая чувствовать, что и он не понимает его, и, прихрамывая, пошел к двери, у которой стоял Пьер. Пьер хотел отойти, чтобы скрыться от него, но в это самое время он увидал из отворившейся двери кухни высунувшегося Макара Алексеича с пистолетом в руках. С хитростью безумного Макар Алексеич оглядел француза и, приподняв пистолет, прицелился.
– На абордаж!!! – закричал пьяный, нажимая спуск пистолета. Французский офицер обернулся на крик, и в то же мгновенье Пьер бросился на пьяного. В то время как Пьер схватил и приподнял пистолет, Макар Алексеич попал, наконец, пальцем на спуск, и раздался оглушивший и обдавший всех пороховым дымом выстрел. Француз побледнел и бросился назад к двери.
Забывший свое намерение не открывать своего знания французского языка, Пьер, вырвав пистолет и бросив его, подбежал к офицеру и по французски заговорил с ним.
– Vous n"etes pas blesse? [Вы не ранены?] – сказал он.
– Je crois que non, – отвечал офицер, ощупывая себя, – mais je l"ai manque belle cette fois ci, – прибавил он, указывая на отбившуюся штукатурку в стене. – Quel est cet homme? [Кажется, нет… но на этот раз близко было. Кто этот человек?] – строго взглянув на Пьера, сказал офицер.
– Ah, je suis vraiment au desespoir de ce qui vient d"arriver, [Ах, я, право, в отчаянии от того, что случилось,] – быстро говорил Пьер, совершенно забыв свою роль. – C"est un fou, un malheureux qui ne savait pas ce qu"il faisait. [Это несчастный сумасшедший, который не знал, что делал.]
Офицер подошел к Макару Алексеичу и схватил его за ворот.
Макар Алексеич, распустив губы, как бы засыпая, качался, прислонившись к стене.
– Brigand, tu me la payeras, – сказал француз, отнимая руку.
– Nous autres nous sommes clements apres la victoire: mais nous ne pardonnons pas aux traitres, [Разбойник, ты мне поплатишься за это. Наш брат милосерд после победы, но мы не прощаем изменникам,] – прибавил он с мрачной торжественностью в лице и с красивым энергическим жестом.
Пьер продолжал по французски уговаривать офицера не взыскивать с этого пьяного, безумного человека. Француз молча слушал, не изменяя мрачного вида, и вдруг с улыбкой обратился к Пьеру. Он несколько секунд молча посмотрел на него. Красивое лицо его приняло трагически нежное выражение, и он протянул руку.
– Vous m"avez sauve la vie! Vous etes Francais, [Вы спасли мне жизнь. Вы француз,] – сказал он. Для француза вывод этот был несомненен. Совершить великое дело мог только француз, а спасение жизни его, m r Ramball"я capitaine du 13 me leger [мосье Рамбаля, капитана 13 го легкого полка] – было, без сомнения, самым великим делом.
Но как ни несомненен был этот вывод и основанное на нем убеждение офицера, Пьер счел нужным разочаровать его.
– Je suis Russe, [Я русский,] – быстро сказал Пьер.
– Ти ти ти, a d"autres, [рассказывайте это другим,] – сказал француз, махая пальцем себе перед носом и улыбаясь. – Tout a l"heure vous allez me conter tout ca, – сказал он. – Charme de rencontrer un compatriote. Eh bien! qu"allons nous faire de cet homme? [Сейчас вы мне все это расскажете. Очень приятно встретить соотечественника. Ну! что же нам делать с этим человеком?] – прибавил он, обращаясь к Пьеру, уже как к своему брату. Ежели бы даже Пьер не был француз, получив раз это высшее в свете наименование, не мог же он отречься от него, говорило выражение лица и тон французского офицера. На последний вопрос Пьер еще раз объяснил, кто был Макар Алексеич, объяснил, что пред самым их приходом этот пьяный, безумный человек утащил заряженный пистолет, который не успели отнять у него, и просил оставить его поступок без наказания.
Француз выставил грудь и сделал царский жест рукой.
– Vous m"avez sauve la vie. Vous etes Francais. Vous me demandez sa grace? Je vous l"accorde. Qu"on emmene cet homme, [Вы спасли мне жизнь. Вы француз. Вы хотите, чтоб я простил его? Я прощаю его. Увести этого человека,] – быстро и энергично проговорил французский офицер, взяв под руку произведенного им за спасение его жизни во французы Пьера, и пошел с ним в дом.
Солдаты, бывшие на дворе, услыхав выстрел, вошли в сени, спрашивая, что случилось, и изъявляя готовность наказать виновных; но офицер строго остановил их.
– On vous demandera quand on aura besoin de vous, [Когда будет нужно, вас позовут,] – сказал он. Солдаты вышли. Денщик, успевший между тем побывать в кухне, подошел к офицеру.
– Capitaine, ils ont de la soupe et du gigot de mouton dans la cuisine, – сказал он. – Faut il vous l"apporter? [Капитан у них в кухне есть суп и жареная баранина. Прикажете принести?]
– Oui, et le vin, [Да, и вино,] – сказал капитан.
Французский офицер вместе с Пьером вошли в дом. Пьер счел своим долгом опять уверить капитана, что он был не француз, и хотел уйти, но французский офицер и слышать не хотел об этом. Он был до такой степени учтив, любезен, добродушен и истинно благодарен за спасение своей жизни, что Пьер не имел духа отказать ему и присел вместе с ним в зале, в первой комнате, в которую они вошли. На утверждение Пьера, что он не француз, капитан, очевидно не понимая, как можно было отказываться от такого лестного звания, пожал плечами и сказал, что ежели он непременно хочет слыть за русского, то пускай это так будет, но что он, несмотря на то, все так же навеки связан с ним чувством благодарности за спасение жизни.
Ежели бы этот человек был одарен хоть сколько нибудь способностью понимать чувства других и догадывался бы об ощущениях Пьера, Пьер, вероятно, ушел бы от него; но оживленная непроницаемость этого человека ко всему тому, что не было он сам, победила Пьера.
– Francais ou prince russe incognito, [Француз или русский князь инкогнито,] – сказал француз, оглядев хотя и грязное, но тонкое белье Пьера и перстень на руке. – Je vous dois la vie je vous offre mon amitie. Un Francais n"oublie jamais ni une insulte ni un service. Je vous offre mon amitie. Je ne vous dis que ca. [Я обязан вам жизнью, и я предлагаю вам дружбу. Француз никогда не забывает ни оскорбления, ни услуги. Я предлагаю вам мою дружбу. Больше я ничего не говорю.]
 Старооскольская городская общественно-политическая газета
Старооскольская городская общественно-политическая газета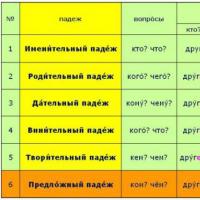 Урок "три типа склонения имен существительных" Типы склонения существительных в русском
Урок "три типа склонения имен существительных" Типы склонения существительных в русском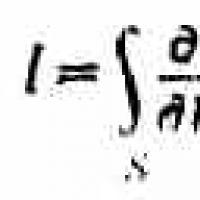 Основы теории максвелла для электромагнитного поля Электромагнитное поле максвелла
Основы теории максвелла для электромагнитного поля Электромагнитное поле максвелла Как происходит восстановление в очереди на улучшение жилищных условий после снятия Сняли с городской очереди
Как происходит восстановление в очереди на улучшение жилищных условий после снятия Сняли с городской очереди Действия при наступлении страхового случая по осаго Страховка осаго страховые случаи
Действия при наступлении страхового случая по осаго Страховка осаго страховые случаи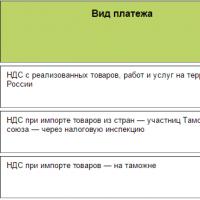 Порядок и сроки оплаты ндс Ндс за 4 квартал срок
Порядок и сроки оплаты ндс Ндс за 4 квартал срок Суп Велюте Дюбарри — Velouté Dubarry Салат дюбарри рецепт
Суп Велюте Дюбарри — Velouté Dubarry Салат дюбарри рецепт